Uot Uitmen: poeziia gradushchei demokratii
 med.00152.001.jpg
К. ЧУКОВСКИЙ
УОТ УИТМЭН
med.00152.001.jpg
К. ЧУКОВСКИЙ
УОТ УИТМЭН Поэзия
грядущей демократии Четвертое исправленное и дополненное издание Издание Петроградского Совета Рабочих и Красн. Депутатов 1919
 med.00152.002.jpg
med.00152.002.jpg
ОГЛАВЛЕНИЕ
| Стр. | |
| От автора. . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| Уот Уитмэн (критико-биографическая статья). . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| Стихи Уота Уитмэна. | |
| Вы, преступники, приведенные в суд. . . . . . . . . . . . . . . | 61 |
| Тебе. . . . . . . . . . . . . . . | 62 |
| Изумление ребенка. . . . . . . . . . . . . . . | 62 |
| Тому, кто скоро умрет. . . . . . . . . . . . . . . | 62 |
| Городская мертвецкая. . . . . . . . . . . . . . . | 62 |
| Любовные игры орлов. . . . . . . . . . . . . . . | 63 |
| Песня о большой дороге. . . . . . . . . . . . . . . | 64 |
| Деревенская картина . . . . . . . . . . . . . . . | 68 |
| Тебе. . . . . . . . . . . . . . . | 68 |
| Из "Песни о самом себе". . . . . . . . . . . . . . . | 70 |
| Дети Адама. | |
| Запружены реки мои. . . . . . . . . . . . . . . | 86 |
| Женщина ждет меня. . . . . . . . . . . . . . . | 89 |
| Час исступления и радости. . . . . . . . . . . . . . . | 90 |
| Аир. | |
| О жутком сомнении во всех обличиях. . . . . . . . . . . . . . . | 92 |
| Летописцы грядущих веков . . . . . . . . . . . . . . . | 92 |
| Когда я услыхал к концу дня. . . . . . . . . . . . . . . | 93 |
| Незнакомому. . . . . . . . . . . . . . . | 94 |
| Мы—двое мальчишек. . . . . . . . . . . . . . . | 94 |
| Если кого я люблю. . . . . . . . . . . . . . . | 94 |
| Ты, за кем, бессловесный... . . . . . . . . . . . . . . . | 95 |
| Разные стихотворения. | |
| Европа. . . . . . . . . . . . . . . | 95 |
| Бей, бей, барабан. . . . . . . . . . . . . . . | 97 |
| Годы современные. . . . . . . . . . . . . . . | 97 |
| Ты, мальчишка из прерий. . . . . . . . . . . . . . . | 98 |
| Когда я читаю книгу. . . . . . . . . . . . . . . | 98 |
| Одной певице. . . . . . . . . . . . . . . | 98 |
| Я знаю, что лучшее время—мое. . . . . . . . . . . . . . . | 99 |
| Из "Песни о выставке". . . . . . . . . . . . . . . | 99 |
| Русское об Уитмэне. . . . . . . . . . . . . . . | 102 |
Первая Государственная Типография, Гатчинская 26.
 med.00152.003.jpg
med.00152.003.jpg
От автора.
Я много виноват перед Уитмэном, и мне хочется в предлагаемой книжке загладить свою вину. Дело в том, что лет десять назад я издал об Уитмэне брошюру, от которой далеко не в восторге. Не хочу, чтобы по этой брошюре судили обо мне или о нем. Искренне прошу друзей-читателей, у которых эта брошюра имеется, немедленно уничтожить ее: этого требует уважение к памяти Уитмэна и сострадание ко мне. Я пробовал было ее исправлять, но увидел, что она неисправима; и вот пишу по-новому, вторично.
Почти все стихотворения Уитмэна предлагаются в новом переводе; также и прежняя статья заменена другою. Перевод дан в отрывках, в наиболее существенных выдержках. Как бы ни отнеслись читатели к моей работе, они должны будут признать в ней одно качество—старательность: иные стихотворения я переводил по пяти, по шести раз, в разных тонах, в разных стилях, и должен сказать, что перевод произведений Уитмэна—труднейшая литературная работа.
Думаю, что книжка моя своевременна. Мы можем не любить Уота Уитмэна, но мы должны его знать. Европа уже давно ввела его в свой обиход. Без него была бы неполна история мировой литературы. Особенно во Франции за последние годы утверждается культ его духа. Трудно указать новейшего французского поэта, который не был бы под обаянием Уитмэна. Даже Поль Клодель—уитмэнианец; пресловутый унанимизм Жюля Ромэна весь предуказан Уитмэном. Пьер-Жан Жув, Фернанд Грэг, Жорж Дюамель, Вильдрак, Барзен были бы немыслимы без Уитмэна. Я перелистываю статью Луначарского "Молодая французская поэзия" и чуть ни на каждой странице нахожу упоминание об Уитмэне! Вся поэзия устремилась по пути указанному американским поэтом.
 med.00152.004.jpg
med.00152.004.jpg
Его пророчество наконец-то услышано. "Молодые стихотворцы отказались от монотонной гармонии классиков, от словесного акробатства романтиков, от мистической оркестровки символистов, они ищут широких и простых ритмических движений, звучных и монументальных симфоний", т.е. именно того, что дано нам в демократической лирике Уитмэна.1)
Я верю, что американскому барду суждено сыграть и в нашей поэзии ту же огромную роль. К сожалению, все мои попытки пропагандировать его творения в России были до сих пор мало успешны. Я напечатал о нем больше десятка статей—в "Русском Слове", в "Речи", в "Весах", в альманахе "Маяк" и т. д. Мои переводы из Уитмэна печатались в "Русской Мысли", в "Новой Жизни", в "Народном Вестнике", в "Ниве". Но Уитмэн остался так же чужд русскому читателю, как и прежде. Быть может, настоящая книжка наконец-то привлечет к нему сердца.
Вот английские и американские книги об Уитмэне, которые были мною прочитаны при ее составлении:
- 1) Walt Whitman. A Study by John Addington Symonds. London. (George Routledge & Sons). Прелестная изящная характеристика. Мне она нравится больше всех сочинений об Уитмэне.
- 2) Days with Walt Whitman, by Edward Carpenter. London. (George Allen, Ruskin House). Э. Карпентер, поклонник и ученик Уота Уитмэна, подробно описал свои паломничества к нему в 1877 и в 1884 годах, все свои встречи и разговоры с ним. К книге приложены статьи: "Уитмэн, как пророк", "Поэтическая форма Листьев Травы"", "Дети Уота Уитмэна", "Уитмэн и Эмерсон".
- 3) Whitman. A Study by John Burroughs. Boston and New-York. (Houghton, Mifflin & Company). Многословная, пухлая, водянистая книга. Непонятно, почему в ней 400 стр., а не тысяча, не четыреста тысяч!
- 4) Walt Whitman, his ife Land Work, by Bliss Perry. London. (Archibald Constable). Автор относится к Уитмэну чуть-чуть свысока, ему нравится разрушать те легенды, которыми в последнее время окружили имя Уитмэна такие идолопоклонники, как Ричард Бёкк и др. В книге множество заново
 med.00152.005.jpg
med.00152.005.jpg
- проверенных фактов, метких и едких слов, она остроумна, оригинальна, свежа, но мне кажется, что Уитмэн ускользнул от нее совершенно.
- 5) Walt Whitman in Camden, by Horace Traubel. Boston. (Small, Maynard & Co). Огромная книга, дневник преданного друга Уота Уитмэна, который записывал изо дня в день все свои беседы с поэтом.
- 6) Walt Whitman by Isaak Hull Platt. Boston. (Small, Maynard & Co). Маленькая, дельная книжка. Пригодилась бы для Павленковской серии "Жизнь замечательных людей".
- 7) Studies in Literature, by Edward Dowden LL. D. London. (Kegan Paul, Trench, Trübner & Co). Знаменитый автор исследования о Шекспире посвятил Уитмэну большую ученую статью "Поэзия демократии". (Стр. 468-523).
- 8) Familiar Studies of Men and Books, by R. L. Stevenson. London. (Chatto & Windus), и многое множество других, рассеянных по разным журналам.
Эта книжка была написана мною в 1913 году и вышла тогда же в Москве в издании И. Д. Сытина. Вскоре на нее был наложен арест и она была присуждена к уничтожению.
 med.00152.006.jpg
med.00152.006.jpg
 med.00152.007.jpg
med.00152.007.jpg
Уот Уитмэн.
1819—1892
I.
В газетах появилось об'явление:
Вниманию любителей трезвости!
"ФРАНКЛИН ИВЕНС, ИЛИ ГОРЬКИЙ
ПЬЯНИЦА",
современная повесть
знаменитого американского автора.
Посвящается всем обществам трезвости,
всем ненавистникам пьянства. Читайте
и восхищайтесь! Талант автора и захва-
тывающий сюжет ручаются за несомнен-
ную сенсацию! Повесть написана специально
для журнала "Новый Свет" одним из
ПЕРВОКЛАССНЫХ РОМАНИСТОВ
АМЕРИКИ,
дабы вырвать американское юношество из
пасти алкогольного дьвола.
Роман, действительно, вышел хорош, тем более, что знаменитый автор ежеминутно отрывался от рукописи и выбегал вдохновляться в соседний питейный дом под вывеской "Оловянная Кружка". Глотнув добрую порцию джина, он снова садился за письменный стол и с новым азартом вступал в рукопашную с Дьяволом Спиртных Напитков.
 med.00152.008.jpg
med.00152.008.jpg
Роман вышел так превосходен, что автор и перед смертью краснел при одном упоминании о нем. Это был его первый роман и, слава Богу, последний. Не потому ли во всех афишах он и назван знаменитым романистом? И кто знает,—не писал ли эти афиши он сам?
Девятнадцатилетним подростком добыл где-то типографских шрифтов и сделался в соседнем городишке редактором, сотрудником, наборщиком изумительной ежедневной газеты "Вестник Долгого Острова", которую на собственной кляче сам же и развозил по окрестностям—в поля, в огороды, на фермы. Это было ему по душе, особливо радушные фермерши и их смазливые дочки, но когда ежедневная газета стала выходить еженедельно и грозила превратиться в ежемесячную, издатель рассвирепел и выбросил его прочь, как величайшего тунеядца и лентяя.
Впрочем, тунеядцем и лентяем его, кажется, назвал другой издатель, когда выбрасывал его вон из редакции "Ежедневной Авроры", куда этот первоклассный романист, не написавший ни единого романа, явился в цилиндре и с легкою тросточкой, чтобы небрежно просмотреть газеты и снова отправиться гулять. Так он понимал свои обязанности редактора "Ежедневной Авроры".
Гулять он любил до упоения,—просто шататься по улицам, приплюснуться носом к стеклу магазина и рассматривать хотя бы мыло и свечи или кружить по огромному городу на крыше допотопного омнибуса. Он писал стихи и повестушки, признаться, довольно бесцветные, и единственный был у него талант: какой-то божественной лени. Вы бы ни за что не умели так великолепно весь день напролет проваляться где-нибудь на берегу, решительно ничего не делая. Нужен был особенный дар, чтобы ходить такой медленной поступью в сногсшибательном, сумасшедшем Нью-Йорке.
Ему как будто даже лень говорить,—так он был скуп на слова. Это в нем, должно быть, голландская, нидерландская кровь: его мать была родом голландка. "Суетитесь, кричите, скачите, сломя голову, а я лучше посижу у Пфаффа в кабачке-ресторанчике, помолчу, погляжу",—такая была у него философия.
Даже деньги не прельщали его: он царственно брал взаймы у всех. Его темпераменту было в высшей степени свойственно непротивление злу. Даже комаров, которые облепляли его, он не отгонял от себя, охотно отдавал им себя на с'едение.
 med.00152.009.jpg
med.00152.009.jpg
—Мы, остальные, были доведены комарами до бешенства,— рассказывает один очевидец,—а он на них никакого внимания, словно они не кусали его.
Протест, негодование, гнев были чужды его темпераменту.
И вечно он напевал, беспрестанно мурлыкал какую-нибудь мажорную песню, но говорил очень редко, по целым неделям ни слова, хотя слушателем был превосходным. Никогда ни на кого не сердился, никогда ни на что не жаловался. Ко всему был радушно-равнодушен.
И ему уже было за тридцать, и голова у него поседела, а никто, даже он сам, не догадался, что он—гений, великий человек.
Приближаясь к четвертому десятку,—так неторопливо и мирно,—он не создал еще ничего, что превысило бы хоть немного посредственность: вялые рассказцы в стиле Эдгара По, которому тогда все подражали, с обычными аллегориями и Ангелами Слёз, да уличный роман против пьянства, да гладкие, забываемые вирши, которые, впрочем, янки-редактор напечатал однажды с таким американским примечанием: "Если бы автор еще полчаса поработал над этими строчками, они вышли бы необыкновенно прекрасны"; да нескладные публичные лекции, да мелкие газетные листки, которые он редактировал, истощая терпение издателей,—вот и все его тогдашние права на лавровый венок от современников. Раз он даже поехал на гастроли в провинцию, в Новый Орлеан, редактировать газету "Полумесяц", но с обычным, должно быть, успехом, ибо не прошло и трех месяцев, как он снова сидел у Пфаффа, вспоминая новоорлеанские напитки:
—Какой там чудесный кофе! Какие восхитительные вина! Какой дивный французский коньяк!
О, золотая посредственность! Не даром же ты золотая: в тебе столько уюта и комфорта; блаженны, кому ты досталась в удел! Так без всякого плана прожил он половину жизни, не гоняясь ни за счастьем, ни за славой, довольствуясь только тем, что само плыло к нему навстречу, постоянно сохраняя такой вид, будто у него впереди еще сотни и тысячи лет, и, должно быть, его мать не раз вздыхала: "Хоть бы Вальтер женился, что ли, или поступил куда-нибудь на место",—и обиженно роптали его братья: "Все мы работаем, один Вальтер бездельничает, валяется до полудня в кровати",—и суровый отец, фер-
 med.00152.010.jpg
med.00152.010.jpg
мер-плотник, заставил тридцатипятилетнего сына взяться за топор, за пилу: "это повыгоднее статеек и лекций" (и действительно, оказалось выгоднее строить и продавать дома, деревянные фермерские избы),—когда вдруг внезапно обнаружилось, что этот заурядный сочинитель и едва ли талантливый плотник есть гений, пророк, возвеститель нового евангелия.
II.
Но как же это случилось? Где, на каком Фаворе произошло его преображение? И кто возвестил изумленному миру, что явился новый Исаия?
Конечно, он сам,—еще бы!—он сам написал о себе в разных газетах и журналах восторженно-хвалебные статьи. Не ждать же ему, в самом деле, чтобы разверзлись небеса, и ангелы запели оттуда, указуя на него перстами. Вместо ангелов, у современных пророков есть газетчики, репортеры, интервьюеры, и если они не являются,—нужно (нечего делать!) петь осанну себе самому.
И вот почтенный седой человек пишет несколько восторженных отзывов о своей собственной книге и ходит по знакомым редакциям:
—Будьте добры, напечатайте.
И диво: даже эта почти шулерская проделка вышла у него величавой и барственной, без юрких, унизительных, ужимок. Даже в орган черепословов, в "Американский Вестник Френологии", он всучил о себе заметочку,—не заметочку, а целую статью!—даже в захолустную газетку "Brooklyn Times"! Конечно, он этих статей не подписывал, чтобы казалось, будто сами газеты встретили его такими единодушными гимнами. Вот что, например, он писал о себе в одном толстом ежемесячном журнале:
"Наконец-то явился среди нас настоящий американский бард! Довольно с нас жалких подражателей; отныне мы становимся сами собой... Отныне мы сами зачинаем гордую и мощную словесность! Ты во-время явился, поэт!" ("Democratic Review" 1855, IX 1).
Bliss Perry. "Walt Whitman", London. 1906, p. 49. med.00152.011.jpg
med.00152.011.jpg
А в бруклинской газете "Times" он расхвалил себя так, как и сваха не расхвалит жениха:
"Дюжий, широкоплечий! Чистейшая американская кровь! Тридцати шести лет от рождения!.. Ни разу не обращался в аптеку!.. Лицо загорелое!.. Во всю щеку румянец! Борода кое-где с сединой! Пользуется всеобщей любовью!.. Возбуждает большие надежды". ("Brooklyn Daily Times" от 29-го сентября 1855 г.).
И, словно приказчик, зазывающий в лавку, расхваливал себя, как товар:
"Настоящий, не имитация! Не заграничный, а наш, американский!" 1).
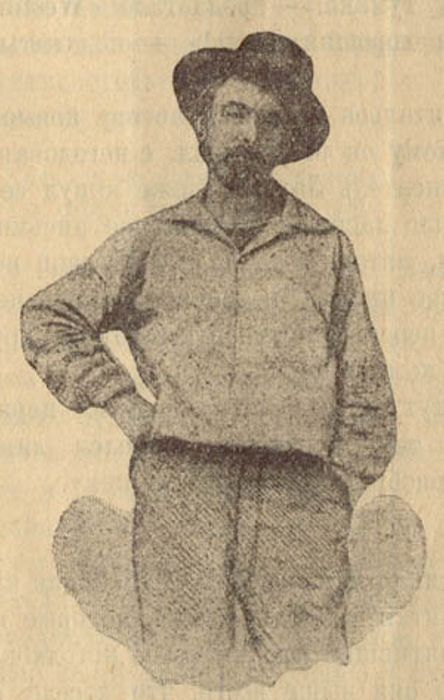 Эта гравюра была приложена к первому изданию "Листьев травы". Воспроизводится по дагеротипному портрету, снятому в июле 1854 г.
A reproduction of the frontispiece to the 1855 Leaves of Grass appears here.
Эта гравюра была приложена к первому изданию "Листьев травы". Воспроизводится по дагеротипному портрету, снятому в июле 1854 г.
A reproduction of the frontispiece to the 1855 Leaves of Grass appears here.
И в довершение всего приложил к этой книге свою дагеротипную карточку: седой мужчина, с расстегнутым воротом, руки в боки, шляпа набекрень, усиленно тщится принять вызывающе-спокойную позу.
"In Re Walt Whitman", Philadelphia. 1893. med.00152.012.jpg
med.00152.012.jpg
Прежнего цилиндра уже нет. Едва этот янки затеял протиснуться в первые ряды литературы и затмить всех Теннисонов и Лонгфелло, он завел и соответственный костюм: долой галстук, манишка расстегнута, чтоб была видна волосатая грудь, платье голубое или пепельно-синее. Чтобы все изумленно спрашивали:
— Ради Бога, кто это такой?
Но ни этот костюм, ни реклама не помогли его книге. Был продан лишь один экземпляр. А газеты писали о ней:
"Эта книга—сплошной навоз".
"Автор столько же смыслит в поэзии, сколько свинья в математике".
"Дать бы ему тумака!"—предлагало "Westminster Review".
"Здесь нужна хорошая плеть!"—подхватывал лондонский "Critic".
То и дело почтальон приносил автору новые экземпляры его книжки. Это те, кому он ее посылал, с негодованием возвращали ее. Знаменитый писатель Лауэлль даже кинул ее в огонь. Когда же однажды пришло ласковое и любезное письмо от другого знаменитого писателя, автор, конечно, не спросив позволения, взял это интимное чужое письмо и полностью перепечатал в своей книге и даже на переплете оттиснул золотыми крупными буквами особенно лестный комплимент.
Конечно, он тут же напечатал, что все первое издание распродано. А между тем, повторяем, нашелся лишь один такой чудак, который приобрел эту дикую книжку.
III.
И все же эта дикая книжка была гениальная книжка. Сейчас у меня на столе десятки тяжелых томов, которые написаны о ней. И есть люди, посвятившие всю жизнь ее истолкованию, изучению.
— Мудростью она выше всего, что доселе создавала Америка!—воскликнул мудрец Эмерсон.—Я счастлив, что читаю ее, ибо великая сила всегда доставляет нам счастье.
— Ни Гёте, ни Платон не действовали на меня так, как она!—свидетельствует изысканный Symonds, а проникновенный Эдвард Карпентер, которого так чтил наш Толстой, писал поэту в умилении:
"Вы сказали слово, которое ныне у Самого Господа Бога на устах!" 1).
H. Traubel. With W.W. in Camden. Boston, p. 168. med.00152.013.jpg
med.00152.013.jpg
И под обаянием поэзии Уитмэна написал в 80-х годах огромную книгу стихов "Навстречу демократии" (Towards Democracy), в которой, между прочим, говорит: "О влиянии Уитмэна на мое творчество я здесь не упоминаю потому же, почему я не говорю о влиянии ветров или солнца. Я не знаю другой такой книги (за исключением, быть может, сонат Бетховена), которую я мог бы читать и читать без конца. Мне даже трудно представить себе, как бы я мог жить без нее! Она вошла в самый состав моей крови... Мускулистый, плодородный, богатый, полнокровный стиль Уота Уитмэна делает его на веки веков одним из вселенских источников нравственного и физического здоровья. Ему присуща широкость земли".
И Свинберн, вдохновеннейший из британских современных поэтов, к сожалению, столь мало известный в России, взывал к Уитмэну в пламенной оде: Хоть песню пришли из-за моря, Ты, сердце свободных сердец!
"Твои песни громче урагана... Твои мысли—как громы; твои звуки, словно мечи, пронзают сердца человеческие и все же влекут их к себе,—о, спой же и для нас твою песню"... 1).
Какое же это было слово, которое наш удивительный янки подслушал у самого Провидения? Оно еще не было сказано, еще не воплотилось нигде в нашей человеческой жизни, а уж он подхватил его и громко прокричал на весь мир. И пусть его голос был скрипучий, визгливый (он сам называл его варварским визгом),—самое слово, которое он прокричал, оказалось так упоительно, так давно было ожидаемо всеми, что лучшие и благороднейшие в мире услыхали его, как благовест.
"Он обрадовал меня такою радостью, какой не радовал уже многие годы ни один из новых людей,—писал Бьернстерне-Бьернсон.—Я и не чаял, чтобы в Америке еще на моем веку возник такой спасительный дух! Несколько дней я ходил сам не свой под обаянием этой книги, и сейчас ее широкие образы нет-нет, да и нагрянут на меня, словно я в океане, и вижу, как мчатся гигантские льдины, предвестницы близкой весны!" (H. Traubel. With W. W. etc., p. 274).
Songs before Sunrise, p. 143, 144. med.00152.014.jpg
med.00152.014.jpg
Это слово, осчастливившее лучших тогдашних людей, и Генри Джорджа, и Олкотта, и Торо, было титаническое слово: демократия. Их очаровало, конечно, не то, что вот явился поэт-демократ,—таких и без него было много,—их увлек тот широчайший размах его стихийной фантазии, тот почти нечеловеческий экстаз, которым он преобразил демократию в мировую, космическую силу, в какое-то новое солнце каких-то новых небес, и всю вселенную увидел по-новому, глазами этих новых, грядущих людей.
Еще полвека назад священник-демократ Фридерик Робертсон взывал к английским рабочим: "Рабочие, мы ждем от вас поэзии; вы живете так правдиво и смело. Поэзия грядущего должна принадлежать только вам. В высших слоях она давно измельчала, износилась; стала сентиментальной и болезненной. Феодальная аристократия и все, что с ней связано, разные турниры да зáмки,—давно уже исчезли и выродились. Последние звуки феодальной поэзии отзвучали на струнах Вальтера Скотта. Байрон пропел ей отходную. Она умерла, но нежность, но героизм, но рыцарская доблесть живут и доселе и нет для них более песен. Песни эти придут из рабочей среды. Рабочие! наши предки-воители пели нам о величии, героизме и преданности, что таились в дыму ратного поля, встаньте же и поведайте нам о том "духе живе", что сокрыт в дыму фабричных труб,—о поэзии героизма, терпения, труда, о поэзии рабочих людей."
Уитмэн был один из немногих предначертателей этой долгожданной поэзии. Но, конечно, фабричными трубами не исчерпывается поэзия демократии. Многие думают, что стòит только сентиментально воспеть мозолистые руки рабочего, или молот, или красное знамя, и ты станешь демократическим бардом. Тем-то и значителен Уитмэн, что он первый ощутил демократию, как явление планетарное, космическое, выходящее далеко за пределы политических и социальных программ современного пролетарского класса. Человек созерцательного, "индусского" склада души, он видел пафос демократии не в политике, а в какой-то новой, еще не возникшей религии.
И второе великое слово сказал этот неожиданный гений: наука.
Наука и Демократия—две неизбежности, две роковые тропы на будущих путях человечества! Ослепительные откровения
 med.00152.015.jpg
med.00152.015.jpg
науки и всемирное торжество демократии,—эти два величайших знамения современной мировой истории,—какую новую создадут они душу, какие новые, небывалые чувства взлелеют они в этой новой душе!
Теперь всюду в Европе и у нас разные двухвершковые новаторы ежеминутно измышляют рецепты какого-то нового искусства, но истинно новым поэтом, настоящим футуристом будет, несомненно, лишь тот, кто воплотит в своем творчестве грезы и чаяния, восторги и верования близкого неотвратимого века—века науки и демоса!
Конечно, быть поэтом науки—это нисколько не значит сочинять сонеты и стансы об икс-лучах или радии; это значит: впитать в свою кровь, в самые недра своего существа то научное постижение мира, научное жизнеощущение,—бессознательное, почти инстинктивное,—которое незаметно, как воздух, охватывает современную душу, и пережить это новое чувство, как свою личную радость и горе, претворить его в эмоции, в страсти, в лирику.
Уже более полувека назад темный полуневежда-янки понял это, и на деле показал, какие богатства поэзии таятся в современной науке, и с дерзостью варвара создал новые, небывалые формы для небывалых своих вдохновений, но лишь немногие избранные услыхали его тогда, и только в последние годы человечество начинает догадываться, какого великого пророка оно чуть не забросало камнями.
Теперь его книгу прочла вся Европа. Его имя стало мировым, как имя Ибсена или Ницше, и не знать его считается стыдом. Возникают специальные журналы для проповеди его идей, создаются общины, колонии его учеников и последователей, и только у нас, в России, он и посейчас—незнакомец. А, между тем, кому, как не нам,—всемужицкому, многомиллионному царству,—его песни о грядущей демократии.
IV.
Самое странное в биографии Уитмэна—это внезапность его перерождения. Жил человек, как мы все, дожил до тридцати пяти лет и вдруг, ни с того ни с сего, оказался мудрецом-боговидцем. Еще вчера в задорной статейке он обличал город-
 med.00152.016.jpg
med.00152.016.jpg
скую управу за непорядки на железных дорогах, а сегодня пишет евангелие для вселенского богоносца-демоса! "Это было внезапное рождение Титана из человека",—говорит один из его почитателей.—"Еще вчера он был убогим кропателем никому не нужных стишков, а теперь у него сразу явились страницы, на которых огненными письменами начертана вечная жизнь. Всего лишь несколько десятков подобных страниц появилось в течение веков сознательной жизни человечества". Сам Уитмэн об этом своем озарении свидетельствует: "Скажи, не приходил к тебе ни разу Божественный, внезапный час прозрения, Когда вдруг лопнут эти пузыри Богатств, книг, обычаев, искусств, Политики, торговых дел, любви И превратятся в полное ничто?" 1)
К нему этот "час прозрения" пришел в одно июльское ясное утро в 1853 или 54 году:
"Я помню,—пишет он сам,—было прозрачное летнее утро. Я лежал на траве, и вдруг на меня снизошло такое чувство покоя и мира, такое всеведение, выше всякой человеческой мудрости,—и я понял, что Бог—мой брат, и что его душа—мне родная, и что ядро всей вселенной—любовь".
Но мы не верим в такие мгновенные перерождения: Сава, чтобы сделаться Павлом, должен быть Павлом и раньше. Когда этот беспечнейший янки по целым месяцам валялся на песке, кто скажет, какие вещие чувства, без очертаний и форм, невнятные ему самому, клубились, как туман, в его душе? Ведь впоследствии он сам говорил, что где-то в тайной лаборатории мозга его книга готовилась исподволь, но что он и сам о ней не знал ничего и даже весьма удивился, когда из своего тайника она нечаянно вышла на свет. Хоть мы и не можем понять, почему из мелких зеленых листочков вдруг вырастает огромный пунцовый цветок, такой непохожий на них,—но мы знаем, что он весь из их же сердцевины, создан ими, подготовлен ими, где-то издавна в них таился, чтобы вдруг в одну ночь возникнуть таким велико-
Подробно об этом прозрении см. "Космическое сознание" д-ра Ричарда Мориса Бёкка. Петроград, Книгоиздательство "Новый Человек", стр. 229-247. med.00152.017.jpg
med.00152.017.jpg
лепным сюрпризом! Так всегда возникают пророчества: огненные языки Святого Духа, сошедшие внезапно на апостолов, незримо горели над ними и раньше. Это ничего, что Уот Уитмэн от юности скуден талантами: таланты только мешали бы его внутреннему самоуглублению. Гений не нуждается в талантах. Или пророки, по-вашему, должны быть блестящи, эффектны, находчивы? Нет, любой фельетонщик, поставщик анекдотов сразил бы Уитмэна своими талантами; пророкам свойственна именно такая неповоротливость мысли, банальной и даже пресной, без юмора, без малейшей иронии, чтобы торжественно, молитвенно и строго, как некую томительную литургию, воспринимать бытие. Египетские мистики, персидские суфиты, китайские таоисты, Упанишады и Веды сродни его "Листьям Травы". Карпентер в оригинальной статье берет отдельные строки священных индусских книг, Лао-Си и Нового Завета, и, сопоставляя с такими же строками Уитмэна, демонстрирует их однородность, тождественность. Ричард Морис Бёкк ставит Уитмэна рядом с такими боговидцами, как Иисус Христос и Будда. Правда, древние религиозные гении глубже, вдохновеннее Уитмэна, но он шире их всех, универсальнее: как бы те ни воспаряли над миром, они все же были ограничены кастами, предрассудками, расами, почитали свое племя единственно-богоугодным, единственно-богоизбранным, а всех остальных гнушались, как варваров, язычников, неверных, и даже Иисус из Назарета, по домыслам ученых богословов, предназначил свое Божье Царство только для еврейского народа и верил, что сам он ниспослан лишь к агнцам дома Израилева. Иисусово Божье Царство было национально-еврейское царство, и язычники были исключены из него 1). Но не напрасно же мы обмотали всю землю стальными нитками рельсов, не напрасно все наши касты, сословия, расы стали единым демосом, единым гигантским телом, разлегшимся на четырех континентах, с газетами, телеграфами, биржами: этому гигантскому телу подобает такой же дух, и вот, как первое знамение нового, небывалого века, грандиозная поэзия Уитмэна, в которой так полно отпечатлелась всеоб'емлющая эта широта. Как демос вмещает в себе, поглощает все нации, климаты, возрасты, мировоззрения, нравы,
По словам профессора богословия Пфлендерера (см. книгу А. Луначарского "Религия и социализм", т. II, стр. 17). med.00152.018.jpg
med.00152.018.jpg
религии, так и демократический бард во всем мире не отвергнет ничего и никого: "Я никого не оставил за дверью, я всех пригласил, Вор, паразит и содержанка—это для всех призыв, Раб с отвислой губой приглашен И приглашен сифилитик!
Прежние века и не мечтали о такой безумной широте. "Я и краснокожий, и негр, и каждая каста—моя, каждая вера—моя, я фермер, джентльмен, механик, художник, матрос и квакер, преступник, мечтатель, буян, адвокат, священник и врач"... Это ощущение своей многоликости, многоименности, своего тождества со всем и со всеми доведено у него до восторга, здесь главная основа его творчества, эдесь источник его вдохновений.
V.
Его книгой восхищается весь мир, но, конечно, не министр Гарлан.
Когда этот министр внутренних дел в Вашингтоне узнал, что среди его новых чиновников есть автор такой безнравственной книги (а Уитмэн после войны определился в чиновники), он велел немедленно уволить его.
Чиновника обыскали. Пошарили среди его бумаг и, действительно, нашли эту книгу.
—Прогнать его в двадцать четыре часа!
Пророк величаво ушел обычной медлительной поступью и скоро отыскал себе новое место—писца в министерстве юстиции. Оттуда его не прогоняли, но едва он затеял издать свою книгу, как "Общество для борьбы с развратом" заявило прокурору штата, что эта книга подрывает нравственность, и прокурор пригрозил издателю скандальным судебным процессом. Издатель отказался от издания.
Но автор ни минуты не чувствовал, что он мученик, жертва. В защиту его оскорбляемой книги писались кипучие статьи; один талантливый ирландец, О'Коннор, сочинил даже целую брошюру, где, проклиная Гарланда, рыдал над поруганным гением, а поруганный гений в это самое время сидел, быть может, на улице на краю тротуара, и уписывал с товарищем арбуз. Прохожие смотрели и смеялись.
— Пусть смеются!—утешался он.—Нам арбуз, а им только смех!
 med.00152.019.jpg
med.00152.019.jpg
Товарищ гения был кондуктор конки. Всякую свободную минуту они проводили вместе, а в разлуке нежно переписывались,
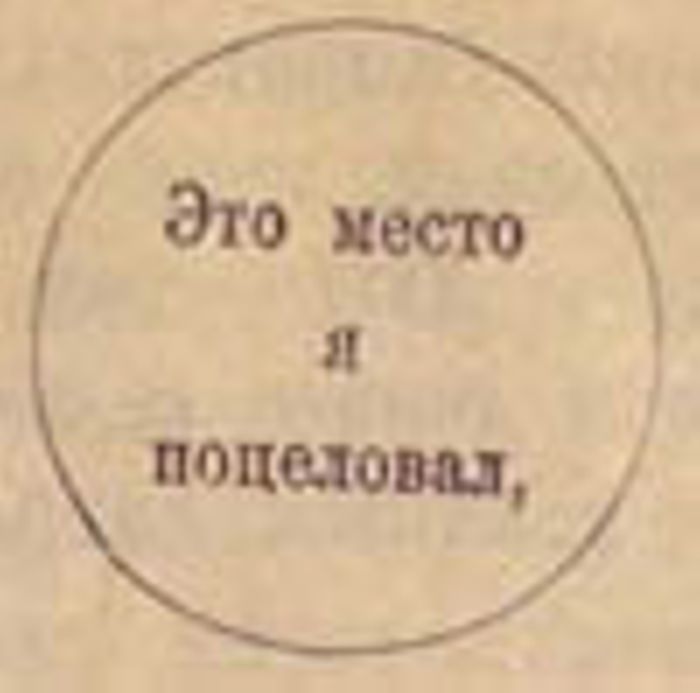 The words, "Это место я поцеловал," are enclosed in a circle.
The words, "Это место я поцеловал," are enclosed in a circle.
Это место я поцеловал,—писал кондуктору гений в конце одного письма. "Мы сразу полюбились друг другу,—вспоминал потом кондуктор.—Уот так и не покинул вагона, приехав на крайнюю станцию, а отправился вместе со мною в обратный конец. С тех пор он часто ездил со мною днем и всегда вечером. Было у нас в обычае, чуть я освобожусь, забредать в один трактирчик, на Вашингтонском авеню, и там, утомленный, я часто опускал голову на руки и засыпал над столом, а Уот сидел, ждал, наблюдал, молчал, оберегал мой сон и будил меня только тогда, когда заведение закрывалось. Перед вечером я, бывало, приду к министерству финансов и жду, пока он кончит занятия. Тогда мы пускаемся блуждать по городу, часто безо всякого плана, куда придется. И так изо дня в день по целым месяцам".
У Уитмэна вообще была склонность к какой-то экзальтированной дружбе. В этой чрезмерной нежности ему мерещился новый культ демократического единения, товарищества. Стоит, бывало, заболеть какому-нибудь нью-йоркскому кучеру, вознице громоздкого омнибуса,—поэт тотчас же берется за вожжи и месяц, и два заменяет товарища в трудной и опасной работе. (Нужно быть виртуозом-извозчиком, чтобы управиться с такой колесницей в суете нью-йоркского Бродвея).
А когда, в 1861 году, началась война за освобождение негров, эти его душевные склонности вылились в такой изумительной форме, что навеки достойны остаться памятникомъ демократической дружбы. Поэт поселился в том городе, куда доставляли всех раненых,—а их были тысячи и тысячи,—и ухаживал за ними три года, ночью и днем, не боясь ни оспы, ни гангрены, ни тифа, среди ежеминутных смертей, стал их сиделкой, духовником, исповедником, братом милосердия,—
 med.00152.020.jpg
med.00152.020.jpg
и жутко читать в его письмах об отрезанных руках и ногах, которые огромными кучами сваливались во дворе, под деревом 1).
Молчаливый, величавый, медлительный, он уже одним своим видом успокаивал дрожащих умирающих, и те, к кому он подходил на минуту, чувствовали себя осчастливленными. Было в нем что-то магнетическое. Люди так и льнули к нему и с радостью отдавали ему свои деньги и свои сердца. Вот какими словами описывает один врач-психиатр свое первое свидание с ним:
"Что он говорил,—я не помню, я просто опьянел от восторга. Я с несомненностью поверил, что он или божество или сверх-человек. Какъ бы то ни было, но один этот краткий час, проведенный с поэтом, был решающим, повортным пунктом всей моей жизни" 2).
"Никогда я не забуду той ночи,—пишет один очевидец,—когда я сопровождал Уота Уитмэна в его обходе нашего госпиталя. Госпиталь состоял изъ коек, поставленных в три ряда, и на каждой койке—больной или раненый. Когда появлялся Уот Уитмэн, на лицах у всех загоралась улыбка, и, казалось, его присутствие озаряло светом то место, где он находился.
"От койки к койке тихим, дрожащим голосом зазывали его страдальцы. Хватали его за руку, обнимали его, встречали его глазами. Того он ободрит словом, тому напишет под диктовку письмо; тому даст апельсинов, конфет, тому щепоть табаку, тому почтовую марку. От иного умирающего он выслушивал поручения к невесте, к матери, к жене, иного ободрял прощальным поцелуем. Казалось, он оставлял какую-то благодать на каждой койке, мимо которой проходил. В ночь его прихода долго горели в этих бараках огни, и герои-мученики беспрестанно кричали ему; "Уот, Уот, Уот, приходи же непременно опять". ("New-York Herald", 1876). Конечно, он работал безвоздмездно; он ведь не принадлежал ни к какой организации по оказанию помощи раненым. Все деньги, которые ему удавалось собрать, он тотчас раздавал больным солдатам.
Сохранилась связка писем, которые Уитмэн в ту пору писал из Вашингтона своей матери; иные не могу не привести:
The Writings of John Burroughs, vol. X, p. 30. Walt Whitman Fellowship Papers. VI. med.00152.021.jpg
med.00152.021.jpg
"Мама! Нынче вечером, 22 iюня (1863 года), я все время провел у постели одного молодого парня, по имени Оскар Уильбер, 154-го Нью-Йоркского полка. У него кровавый понос и очень тяжелая рана. Он попросил меня почитать ему Новый Завет. Я сказал: о чем почитать? Он ответил: выберите сами. Я прочел ему те главы, где описаны последние часы Иисуса Христа, и как его распинали. Несчастный попросил прочитать и о том, как произошло воскресение. Я читал очень медленно, так как Оскар совсем ослабел. Чтение утешило его, но на глазах у него были слезы. Онъ спросил меня: верю ли я? Я ответил: не так, как ты, а пожалуй—и так. Он ответил: вера—моя главная опора. Заговорил о смерти, и он сказал, что не боится ее.—А разве ты не надеешься, что ты будешь здоров?—спросил я его. Он ответил: едва ли. Он спокойно говорил о своем положенiи. Ранен он тяжело, потерял много крови. Понос его доконал, и я чувствовал, что он почти уже мертв. Он бодрился до последней минуты. Мой поцелуй возвратил мне четырежды. Он дал мне адрес своей матери: миссис Салли Д. Уильбер, Алегханская почта, в штате Нью-Йорк. После этого я еще виделся съ ним два или три раза. Он умер через несколько дней."
Вот отрывок из другого письма: "Мама!.. Весу во мне двести фунтов, а физиономия моя пунцовая. Шея, борода и лицо в самом невозможном состоянии. Не потому ли я и делаю кой-какое добро в лазаретах, что я такой громадный, волосатый, похожий на дикого буйвола. Здесь много солдат с первобытных окраин—с запада, с далекого севера, вот они и привязались к человеку, который не имеет лакированного, белоснежного вида бритых столичных франтов."
VI.
Издав свою первую книгу, Уитмэн забросил топор и навсегда отказался от плотничества. "Я боюсь, как бы не разбогатеть!"—шутил он. Богатство и вправду пугало его, и на всю жизнь он остался пролетарием, верный своей апостольской заповеди: Ты не должен собирать и громоздить то, что называется богатством Все, что наживешь и заработаешь, разбрасывай, куда ни пойдешь!
 med.00152.022.jpg
med.00152.022.jpg
Летом 1864 года с Уитмэном случилось несчастье. Перевязывая гангренозного раненого, он неосторожно прикоснулся порезанным пальцем к ране, яд заразы проник к нему в кровь, и вся его рука, до самого плеча, воспалилась.
Вскоре воспаление прошло, но здоровье осталось надорванным. В 1873 году Уитмэна разбил паралич, у него отнялась левая половина тела. Хилый и нищий старик, безо всяких надежд на будущее, страдая от мучительной болезни, Уитмэн, наперекор всему, остался жизнерадостен и светел. Старость, нищета и болезнь не сокрушили его уитмэнизма. Его поэмы, относящиеся к этой поре, остались такими же праздничными, как и созданные в ранние годы: Здравствуй, неизреченная благость предсмертных дней!— приветствовал он свою недужную старость.
Впоследствии он неожиданно оправился, и в 1879 году, в апреле, в годовщину смерти Линкольна прочитал о нем в Нью-Йорке, в одном из самых обширных театров, публичную лекцию—с огромным успехом, а осенью уехал в Колорадо путешествовать по Скалистым горам, но вскоре его здоровье ухудшилось, и последние десять лет своей жизни он провел, прикованный к инвалидному креслу, все такой же благостный, источающий из себя радость и свет.
О, с каким благоговением женщины штопали ему дырявые носки! Знатные лэди из Англии присылали ему шарфы и жилеты. Он милостиво принимал подношения. Со всех концов мира с'езжались к нему паломники: то приедет Оскар Уайльд, то анархист, то босяк,—он всех принимал по-царски: милостиво, равнодушно-радушно. Благосклонно разрешал он фотографам щелкать вкруг себя аппаратами и улыбкой поощрял своих соседок приносить к нему на квартиру то спаржу, то сливки, то тарелку жаркого, то розы.
Оскар Уайльд, приехав в Америку, был, как известно, возмущен аляповатым вульгарным убранством тогдашних американских жилищ. "Одна лишь комната во всей Америке пришлась мне по вкусу,—рассказывал он.—Это та, в которой я увидел Уота Уитмэна. В ней было много солнца и воздуха, а на столе стояла простая кружка с водой".
 med.00152.023.jpg
med.00152.023.jpg
"Он—величайший американский поэт!"—писал миллиардер Карнеги, посылая ему в дар 700 рублей.
"Мы обязаны лелеять и холить этого великолепного старца!"—писал юморист Марк Твэн, посылая щедрую лепту.
Когда же у великолепного старца собралось достаточно денег, он истратил их изумительным образом: при жизни заказал себе памятник—грандиозный, гранитный, на высоком холме,—и на нем начертал свое имя: Уот Уитмэн и стал терпеливо ждать, когда же этот монумент пригодится. Но смерть долго не приходила к нему. Умирал он так же медленно, как жил. Уж его разбивал паралич— и раз, и другой, и третий, а все не мог одолеть.
Когда, наконец, он скончался, большие толпы народа пришли провожать его гроб. Священников не было, а просто один из друзей прочитал над могилой отрывки из разных священных книг: из Библии, Корана, Зенд-Авесты, Конфуция, а также из книги того великого барда-пророка, которого они хоронили.
Что же это за священная книга? В чем же ее пророчества? Чем она так обрадовала весь современный мир?
VII.
Эта книга называется: "Листья травы".
Человечество издавна ждало ее, и теперь, особенно в России, эта книга насущно нужна.
"Хочется нам или нет,—читаю в одной давнишней статье,—но на-днях, не сегодня-завтра, нам предстоит неизбежно встретиться лицом к лицу с демократией и принять ее так или иначе. В Европе, как и в Америке, источники былых вдохновений иссякли. Классическая древность и средневековая романтика уже не могут служить настоящей пищей для искусства. Искусство и литература, если они хотят удержать свое прежнее место, неизбежно должны примениться к этим новым измененным условиям. Они должны обрести новую веру,—не в ту или иную эстетику, не в тот или этот стиль, тот или этот ритм, а в свою миссию, в свое назначение: воплотить все могущество нового
 med.00152.024.jpg
med.00152.024.jpg
века, его религию и его сущность с той мощью, как некогда эллинские скульпторы воплощали язычество, а итальянские художники средневековый католицизм".
Эту грандиозную задачу взялся исполнить Уитмэн. Он первый постиг и высказал, что у пробудившейся мировой демократии должен же быть хоть под спудом какой-то свой религиозный пафос, религиозный экстаз, и первосвященником этой вселенской религии дерзостно провозгласил себя. Только этой потаенной религией для него и дорога демократия, и когда порою ему чудилось, что, при громадных успехах чисто вещественного благоденствия, она не осуществляет своих религиозных возможностей, он готов был отвернуться от нее. "Похоже, что кто-то наделил нас огромным телом, а души оставил чуть-чуть, а то и совсем не оставил", писал он в такие минуты. Героическая борьба трудовой демократии из-за житейских благ оставляла его равнодушным: митинги, партии, прокламации, стачки никак не отразились в его книге. "По-твоему, милый друг,—писал он в одном из своих манифестов,— демократия это что-то такое, что нужно для выборов, для политики, для разных партийных кличек и больше ни для чего! А по-моему, настоящаяя роль демократии начнется только тогда, когда она пойдет дальше и дальше... Подлинное вечное ее величие должно быть в ее религии, иначе нет у нее никакого величия".
В чем же религия Уитмэна?
Он не забывал ни на миг, что вокруг—мириады миров, и позади—мириады столетий. Наша земля лишь пылинка в вечно-струящемся Млечном Пути. "Я вижу: великое круглое чудо катится через пространство". В каждой капле он видел океан, в каждой секунде он чувствовал вечность. Никаких подробностей, малостей! У него душа—как телескоп: знает только дали и шири. "Я лишь точка, лишь атом в плавучей пустыне миров",—таково его постоянное чувство.
Цветы у меня на шляпе—порождение тысячи вековъ!
Самых цветов он не видит,—какие у них лепестки, завитки,—зато осязательно чувствует те безмерности и безпредельности, которые в них воплотились. "Во мне широта расширяется, во мне долгота удлиняется!"—говорит он в какой-то поэме. Не даром у него так часты слова: миллионы, триллионы, миллиарды.
 med.00152.025.jpg
med.00152.025.jpg
—Триллионы весен и зим мы уже давно истощили, но в запасе у нас есть еще триллионы и триллионы еще... Миллионы солнц в запасе у нас.
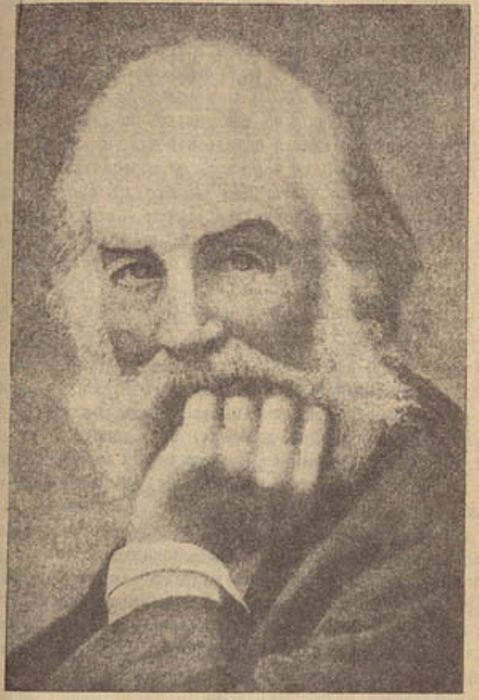 A photo of Whitman taken by G. Frank Pearsall between 1869 and 1872 with the ID 036 appears here.
A photo of Whitman taken by G. Frank Pearsall between 1869 and 1872 with the ID 036 appears here.
—Эта минута ко мне добралась после миллиарда других. Нет лучше ее ничего.
Миллион—единица его измерений. Этой мерой мерил доныне один лишь Бог. Вот он смотрит на вас, но видит не вас, а ту
 med.00152.026.jpg
med.00152.026.jpg
цепь ваших потомков и предков, в которой вы—минутное звено. Спросите у него, который час, и он ответит: вечность. Я еще не встречал никого, кто бы так остро ощущал изменчивость, текучесть, бегучесть вещей, кто был бы так восприимчив к извечной динамике космоса. "Нет ни на миг остановки, и не может быть остановки. Если бы я и вы, и все миры, сколько есть, и все, что на них и под ними, снова в эту минуту свелись к бледной текучей туманности, это была бы безделица при нашем долгом пути. Мы вернулись бы снова сюда, где мы стоим сейчас, и отсюда пошли бы дальше, все дальше и дальше. Несколько квадрильонов веков, немного октильонов кубических верст не задержат этой минуты, не заставят ее торопиться: они—только часть, и все—только часть. Как далеко ни смотри, за твоею далью есть дали. Считай, сколько хочешь,—неисчислимы года". Такие ощущения бывают у каждого, но только мгновениями. У него же они были всегда. Нет ни одной строки в его книге, которая не была бы написана под наитием таких ощущений. Эти головокружительные просторы и дали были фоном всех его картин, окружением всех его образов.
Он как будто всю жизнь носился в междупланетных просторах, и что ему наши вершочки и дюймочки! "Вихри миров, кружась, носили мою колыбель; сами звезды уступали мне место". "Я думал, что этого мира довольно, пока вкруг меня ни возникли мириады других миров. Великие мысли пространства и вечности теперь наполняют меня, ими я буду себя измерять". Такой космически-грандиозной души еще не знала мировая поэзия. Были поэты-титаны, поэты-гиганты, но и у тех был такой крошечный, игрушечный космос. Данте доподлинно знал адрес Люцифера и Христа, он мог бы на карте показать, где находится ад и рай. Как же ему было опьяняться этими просторами и далями, которых он не знал и не чувствовал? Новый космос подарила человеку наука, и Уитмэн первый великий поэт этого нового космоса.
Но разве только наука внедряет в современную душу эту космическую широту ощущений, каких прежде не знала душа? Разве безбрежный разлив демократии, поистине новый всемирный потоп, не взращивает в современной душе то же грандиозное чувство безмерности, широты, необ'ятности?
 med.00152.027.jpg
med.00152.027.jpg
"Вы только подумайте,—пишет поэт в послесловии к своей единственной книге,—вы только вообразите себе теперешние Соединенные Штаты, эти 38 или 40 империй, спаянных воедино, эти шестьдесят или семьдесят миллионов равных, одинаковых людей, подумайте об их одинаковых жизнях, одинаковых страстях, одинаковой судьбе; об этих бесчисленных нынешних толпах, которые клокочут, бурлят вокруг нас и которых мы—неотделимые части! И подумайте для сравнения, какое ограниченно-тесное было поприще у прежних поэтов, как бы гениальны они ни были. Ведь до нашей эпохи они и не знали, не видели множественности, кипучести, биения жизни, и похоже на то, что космическая и динамическая поэзия толпы, которая теперь у каждого в душе, доселе и не была возможна".
Миллионы одинаковых сердец доводят его до бреда. Высшего восторга он не знает—ринуться в этот океан человечества, в нем потонуть, раствориться... Но равенство всех со всеми, всемирное содружество людей,—этого еще недостаточно его щедрой, замашистой душе. Он хотел бы и деревья, и звезды, и каждую песчинку вовлечь в этот демократический мир, всю вселенную преобразить в демократию!
Нет ни лучших, ни худших,—никакой иерархии!—все вещи, все деяния, все чувства так же равны, как и люди,—и корова, понуро жующая жвачку, прекрасна, как Венера Милосская; листочек травинки не менее, чем пути небесных планет; и глазом видеть стручок гороха превосходит всю мудрость веков; и душа не больше, чем тело, и тело не больше, чем душа; и клопу, и навозу еще не молились, как нужно: они так же достойны молитв, как самая святая святыня. Все божественны и все равны:
—Корни всего, что растет, я рад, я готов поливать!
—Или, по вашему, плохи законы вселенной, и их нужно отдать в починку?
—Лягушка—шедевр, выше которого нет! И мышь, это—чудо, которое может одно пошатнуть секстильоны неверных!
—Я не зову черепаху негодной только за то, что она черепаха.
Оттого, что ты прыщеват или грязен, или оттого, что ты вор, Или оттого, что у тебя ревматизмъ, или что ты—проститутка, Или что ты—импотент или неуч и никогда не встречал свое имя в газетах,— Ты менее бессмертен, чем другие?
 med.00152.028.jpg
med.00152.028.jpg
Жизнь так же хороша, как и смерть; счастье—как и несчастье. Победа и поражение—одно. "Ты слыхал, что хорошо победить и одолеть? Говорю тебе, что пасть—это так же хорошо. Это все равно: разбить или быть разбитым!"
Вселенское всеравенство, всетождество! И наука, для которой каждый микроб, вибрион так же участвует в жизни вселенной, как и величайший из нас; для которой у меня под ногою те же газы, те же металлы, что и на отдаленнейших солнцах, и даже беззаконная комета движется по тем же законам, что и мячик играющей девочки,—утверждает, расширяет в современной душе демократическое чувство всеравентсва.
У поэта оно дошло до того, что какую вещь он ни увидит, про всякую говорит: это—я!—и здесь не схема, не формула, здесь живое человеческое чувство. Каждым нервом он ощущает свое равенство со всем и со всеми и, увидев какого-то беглого негра, за которым погоня, тотчас же такую же облаву чувствует за собой: Я этот загнанный раб, это я от собак отбиваюсь ногами... Вся преисподняя следом за мной! Щелкают, щелкают выстрелы! Я за плетень ухватился, мои струпья сцарапаны, кровь сочится, каплет... Лошади там заупрямились, верховые кричат, понукают... Уши мои—как две раны от этого крика, И вот меня бьют с размаха по голове кнутовищами...
"У раненых я не пытаю о ране, я сам становлюсь тоже раненым!"—этим чувством всеравенства, всетождества он мечтает заразить и нас, ибо без этого чувства что же такое демократия? Его оно опьяняет до галлюцинаций, до транса. Словно одержимый факир в вакхическом каком-то вдохновении, он, захлебываясь, начинает кричать, что и звезды—это он, и Бог—это он; и всюду его двойники, и всеь мир—продолжение его самого: "я весь не вмещаюсь между башмаками и шляпой!"
—Водопад Ниагара—вуаль у меня на лице!
—Мои локти в морских пучинах, я ладонями покрываю всю землю!
—О, я стал бредить собою, вокруг так много меня!
И для него не преграда ни времена, ни пространства: сидя в вашингтонском трамвае, он, янки, шагает по старым холмам Иудеи, рядом с юным и стройным красавцем Христом...
 med.00152.029.jpg
med.00152.029.jpg
И потому-то, доведя до последнего края в своей щедрой и размашистой душе это робко-брезжущее чувство, которого у нас почти еще нет, которое все впереди,—чувство равенства и слиянности со всеми,—он так порывисто, с такими об'ятиями бросается к каждой вещи и каждую словно ласкает, словно гладит рукою (ведь каждая—родная ему!), и сейчас же торопится к другой, чтобы приласкать и другую: ведь и эта прекрасна, как та,—и громоздит, громоздит на страницах хаотические груды, пирамиды, тысячи различнейших образов, бесконечные перечни, реестры всего, что ни мелькнет перед ним, списки, каталоги, прейс-куранты вещей (как смеялись его противники), веруя в своем энтузиазме, что стоит ему только назвать, без всяких прикрас, все эти ежеминутные видения,—сами собою неизбежно возникнут поэзия, красота, парение духа, и, действительно, иные его каталоги вдохновеннее и поэтичнее многих страдательно-сладкогласных поэм.
Сумасшедшего везут, наконец, в сумасшедший дом: не спать уж ему
никогда, как он спал в материнской спальне!
Крепко привязано тело калеки к столу у хирурга: то, что отрезано,
шлепает страшно в ведро.
Младшая сестра для старшей держит распяливши нитки; старшая
мотает клубок; из-за узлов у нея всякий раз остановка.
Карандаш репортера быстро порхает по записной его книжке;
Маляр пишет вывеску лазурью и золотом;
Проститутка влачит свою шаль по земле, шляпка висит у нее на
пьяной, прыщавой шее; толпа хохочет над ее неприличною
бранью; мужчины глумятся, друг другу подмигивая.
Штукатуры дом штукатурят, кровельщик кроет крышу, каменщики
кричат, чтобы им дали известки;
Осень за летом идет, пахарь пашет, косит косарь, и озимь сыплется
наземь;
Патриархи сидят за столом с сынами и сынами сынов и сыновьих
сынов сынами;
В палатках отдыхают охотники после охоты,
Город спит и деревня спит,
Живые спят, сколько надо, и мертвые спят, сколько надо.
Старый муж спит со своею женою, и молодой муж спит со своею женою,
И все они льются в меня, и я выливаюсь в них,
И все они—я,
Из них изо всех и из каждого я тку эту песню о себе.
Это грандиозное стихотворение я перевел слово в слово, тем же размером и с теми же рифмами, какие нашел и в подлиннике: там нет ни единой рифмы и никакого стихотворного размера.
 med.00152.030.jpg
med.00152.030.jpg
—У меня не любовные стансы для женщин, больных несварением желудка! Прочь эту патоку рифм!—восклицал демократический бард и истратил несколько лет, чтобы вытравить, из'ять из своей книги все фокусы, эффекты, прикрасы и вычуры обычной расхожей поэзии, видя в них отжитые традиции былой феодальной культуры, наследие аристократического мира.
"У нас в Америке такие безумные ветры, такие сильные люди, такие грандиозные события, у нас величайшие океаны, высочайшие горы, безграничные прерии,—куда же нам эти мелкие штучки, сделанные дряблыми пальцами!"...—говорил он об американской словесности.—"Пробуждение народных масс и разрушение общественных перегородок,—все это слало вызов нашей современной поэзии, и я бессознательно принял его".
Всех героев прежних баллад, все прежние темы, всю былую эстетику он отверг во имя демократии:
— Муза, беги из Эллады, покинь Ионию, сказки о Трое, об Ахилловом гневе забудь, о скитаниях Одиссея, Энея! К Парнасу табличку прибей: За от'ездом отдается в наем.
"Я пришел затем, чтобы осенить серые массы Америки светом величия и героизма, которым греческие и феодальные поэты осеняли своих богов и героев".
Старая поэзия заколочена в гроб. "У локомотива есть собственный ритм, и улица Чикаго звучит по другому, чем древние пастбища Аркадии". Уитмэн является величайшим реформатором стиха, "Рихардом Вагнером поэзии", и замечательлно, что тонкие эстеты-староверы, блюстители классических заветов, восторженно говорят теперь о его дерзостном бунте против всех канонов былой красоты.
VIII.
Из всех свойств и качеств мира он усвоил лишь одно—его громадность. Он—поэт миллиардов, отсюда его слепота к единицам. Все особенное, частное, случайное, индивидуальное, личное ему недоступно. Нельзя же смотреть в телескоп на микроскопических мошек. Странно было бы прочитать в его книге длинную подробную историю, как какая-нибудь миссис Джонс или Джонсон влюбилась в зеленоглазого Джона. К мелочам и суетам человеческой жизни он не то что нелюбопытен, а неизменно созер-
 med.00152.031.jpg
med.00152.031.jpg
цает их среди широчайших горизонтов и далей: если он и изобразит миссис Джонсон, то лишь sub specie aeternitatis, окружив ее пылающими безднами, океанами беспредельного хаоса.—"Миссис Джонсон, ты бессмертна, свята и божественна; все, что есть в тебе пошлого, неизменного, озарено миллионами солнц!"—а ей это совсем и не нужно, пожалуйста, не приставайте к ней с вечностью. Пусть у нее не душа, а душонка, но эта душонка—ее, и какой нибудь Толстой или Флобер истратили бы тысячи гениальных страниц для регистрации всех микроскопических чувств этой лилипутской душонки, все же единственной, неповторяемой в мире, а певец многомиллионой толпы, где каждый равен каждому, где все как один и один как все, не видит, не чувствует отдельных человеческих душ. Человечество для него—муравейник, в котором все муравьи одинаковы, и он не замечает, что вот этот муравей—Наполеон, а эта муравьиха—Беатриче *).
Если Гамлет для него то же, что Чичиков, и Шекспир—двойник Смердякова, то нет ни Шекспира, ни Гамлета, нет личностей, лиц, а есть какая-то статистика, алгебра, страшная и угнетающая.
Если поэзия будущего в этом обезличении личности, то мы не хотим ни поэзии, ни будущего!
Нет, даже нос Сирано Бержерака, знаменитый фундаментальный нос, без которого Бержерак—не Бержерак, мы не желаем уступить никому, даже горб Квазимодо, даже запах Петрушки, присущий ему одному, его одного отличающий,—и нам жутко читать поэмы, посвященные Первому Встречному.
—Я славлю каждого, всякого, любого, кого бы то ни было!—постоянно повторяет поэт, а сам и не глядит на того, кого славит. Что и глядеть, если все одинаковы. Первый Встречный, какая-то безличная личность, вот новый Эней, Одиссей грядущего демократического эпоса, и о нем мы знаем лишь то, что он один из миллиона таких же... Но нет, и один—не один: Толстой в "Воскресении" рассказывает, как Нехлюдов узнал Маслову: "Он видел теперь ясно ту исключительную, таинственную особенность, которая отличает каждого человека от другого, делает его особенным, единственным, неповторяемым". Часть первая, IX.
 med.00152.032.jpg
med.00152.032.jpg
Он не один! Он отец тех, кто станут отцами и сами! Многолюдные царства таятся в нем, гордые, богатые республики, И знаете ли вы, кто придет от потомков потомков его! Даже в одном человеке—целые мириады людей!
И женщина, которую он воспевает, есть обще-женщина, а не та или эта, с такой-то родинкой, с такой-то походкой, единственной, неповторяемой в мире. Он видит в ней многородящие чресла, но не чувствует обаяния личности:
"В вас я себя вливаю!—твердит он своим возлюбленным:—Тысячи, тысячи будущих лет я воплощаю чрез вас!"—снова тысячи, снова века и века, но еще неизвестно, согласится ли Джульетта или самая последняя "мовешка" служить своему Ромео каким-то безыменным воплощением веков!
Когда любишь,—как сильно, как остро ощущаешь едиственность своего любимого, его исключительность, его "ни с кем несравнимость": Только в мире и есть этот чистый, Влево бегущий пробор, Только в мире и есть, что лучистый, Детски-задумчивый взор!
Но разве в этих сонмах, легионах, мириадах поэт многоголовья, многолюдства заметит хоть что-нибудь единственное? Здесь он слеп и слеп безнадежно.—"Из океана толпы, из моря ревущего выплеснулась капельная капелька и шепчет: тебя люблю",—вот его ощущение любовности.
Съ миром вернись в океан, моя милая, Я ведь тоже капля в океане..
Покажите ему плотничий топор, самый обыкновенный, простой, и, глядя на этот топор, он немедленно вспомнит те миллионы всевозможных топоров, которым в течение столетий отрубали преступникам головы, делали кровати новобрачным, гробы покойникам, корыта и колыбели младенцам, корабли, эшафоты, лестницы, стулья, бочки, посохи, обручи, столы, он видит несметные толпы древних воителей с окровавленными боевыми топорами, палачей, опирающихся на страшные свои топоры, калифорнийских, колумбийских дровосеков: все топоры всего мира так и сыплются к нему на страницы, одного лишь топора он
 med.00152.033.jpg
med.00152.033.jpg
не видит,—того, который лежит перед ним. Этот топор потонул в лавине других топоров. Его личность ускользнула от Уитмэна 1).
И характерно: когда Уитмэн однажды затеял оплакать смерть президента Линкольна, он оплакал всякого покойника, всякую смерть, а личность великого янки так и не нашла себе места в этой грандиозной поэме. Личность ускользнула и здесь. Уитмэн утверждал, что Линкольн был ему дороже всех людей (кроме покойной матери), и, однако, ни слова не сказал о самом Линкольне, который ведь отличался же чем-нибудь от мириадов не-Линкольнов! Гуртовой, оптовый поэт! И враги демократии ликуют: чего же другого и ждать от поэтов стадности, заурядности, дюжинности!
— О, божественный средний человек! О, святая банальность, шаблонность!—восклицает он с каким-то вызовом, и в этом попрании личности многим чудится крах и банкротство грядущего искусства демократии.
Но почему же в таком случае Уитмэн повторяет в своей книге многократно: Одного воспеваю я—личность простую, отдельную, почему он уверяет на каждом шагу, будто поэзия демократии есть именно поэзия личности? Это не праздный вопрос: ведь отдельная душа человеческая дороже всяких самых идеальных фаланстеров, и горе демосу, если он проглотит ее! Тогда убыток всему человечеству, полное банктротство всего мира. Все есть, до всего дошли,—а нет души, нет Сони Мармеладовой, Лермонтова, Врубеля,—и нет ничего, все пропало, вся планета—зря, ни к чему. Уитмэн не был бы демократическим бардом, если бы в торжестве демократии ему почудилась эта угроза душе. Человеческая душа для него—это единственный фонд, капитал, которым в течение веков только и живет человечество! Он бы ни за что не допустил, чтобы этот фонд хоть на копейку уменьшился. Он в своей книге многообразно указывает, что все, чем человечество богато,—книги, машины, червонцы,—есть только проценты с капитала—души:
См. "Песнь плотничьего топора". med.00152.034.jpg
med.00152.034.jpg
Ты думаешь, что библии и религии божественны,
Я не говорю, что они не божественны,
Я только говорю, что все они выросли из тебя, и могут снова
вырасти из тебя,
Не они дают тебе жизнь, это ты даешь им жизнь:
Как листья их деревьев, как деревья из почвы—так они растут
из тебя.
Монументы, письмена и статуи—все из тебя,
Если бы ты сейчас не дышал и не ходил по земле,
Что бы они были такое?
Поэзия Уитмэна тем-то и значительна, что в ней явлен и воплощен синтез крайнего демократического идеала с самым необузданным индивидуализмом. Индивидуализм, который дотоле считался достоянием аристократических гениев, впервые в поэзии Уитмэна реквизирован для нужд демократии. Если личности и будет где простор, так только в недрах демократии,—для Уитмэна это не теоретический догмат, а самая насущная реальность.
Он и сам чувствует, что здесь—противоречие, что певцу многоголовой толпы не пристало вырывать из муравейника какого-нибудь одного муравья и делать его—хоть на миг—средоточием всего мироздания, но эта непоследовательность не пугает его: Я, кажется, противоречу себе? Ну, что же, я настолько вместителен, Что могу совместить в себе противоречья!—
величаво заявил он однажды. Как бы то ни было, это весьма показательно, что еще задолго до Ницше нашелся такой демократ, который, вопреки своей демократичности или, вернее, благодаря своей демократичности, создал культ сверхчеловека и даже об'явил этим сверхчеловеком себя:
—Я славлю себя и воспеваю себя!
—Запах моих подмышек ароматнее всякой молитвы.
—Я—божество и внутри, и снаружи, гляну в зеркало, и предо мною Бог (хотя в зеркале—растрепанный мужчина, без галстука, с расстегнутым воротом).
Это ли не сатанинское восстание личности! Поэт падает ниц перед зеркалом и, как изображение Бога, целует свое отражение.
—Я тоже творю чудеса.
—Я не враг откровений и библий: малейший волосок у меня на руке есть откровение и библия.
 med.00152.035.jpg
med.00152.035.jpg
Он готов построить себе храм и служить себе самому литургию и на каждой странице кричит, что вся вселенная для него одного, что он—солнце всего мироздания: ты для меня разметалась, земля, вся в ароматах зацветших яблонь,—
Восходящее солнце, слепительно-страшное, как скоро ты убило бы
меня,
Если-б во мне самом другое такое же солнце не всходило навстречу
тебе!
На каждом алтаре, пред которым простираются люди, он беспардонно расселся сам, но пусть они не сердятся на него за то, что он пролез в сверхчеловека, а их оставил в пыли и грязи: он каждому из них говорит:
—Вы такие же сверхчеловеки, как и я!
—Вы тоже рядом со мною на троне—все до единого, кто бы вы ни были, и если посмотрите в зеркало, вы тоже там увидите Бога.
—Как ты велик,—ты не знаешь и сам, проспал ты себя самого!
—О, никого, даже Бога, я песнями моими не прославлю, если я не прославлю тебя!
—Ни у кого нет таких дарований, которых бы не было и у тебя, ни такой красоты, ни такой доброты, какие теперь у тебя!
—Эти равнины безмерные! Эти реки безбрежные! Безмерен, безбрежен и ты, как они!—взывает он к каждому первому встречному—к идиоту, палачу, сифилитику.
Ты думал, что над тобою только единый Всевышний, Нет, Всевышних может быт сколько угодно, один не мешает другому: Ведь этот глаз не мешает другому, эта жизнь не мешает другой.
И скоро на целой земле не осталось ни одного человека: все превратились в богов. Если иконописцы издревле венчали золотыми венцами только единственный лик, а все остальные лики были у них темными и неувенчанными, то теперь на иконостасе поэта мириады, сонмы голов, и каждая с золотым ореолом. Прежнего Богочеловека сменили толпы человекобогов; вон они кишат на асфальте, в магазинах, на бирже, и каждый из них—Мессия, каждый сошел с небес, чтобы творить чудеса, и сам—воплощенное чудо. В том-то и торжество демократии, что в ней каждый человек—Единственный, что личность не только не попрана ею, но именно ею впервые коронована и взнесена. Напрасны были вопли испуганных:
 med.00152.036.jpg
med.00152.036.jpg
— Гунны! Вандалы! Спасайся, кто может, беги! Они нас раздавят, растопчут!
Гунны пришли и не только никого не растоптали, но—устами своего поэта—каждому сказали: ты святой. Именно потому-то и Держиморду, и Шиллера, и Смердякова, и Гамлета поэт венчает одинаковым венцом, что он чувствует, воочию видет, что в основе, в глубине глубин, в своей мистической сущности—под обманчивыми оболочками—их души равны, одинаковы, одинаково святы, одинаково бессмертны, прекрасны, и что это только так кажется, что это чей-то обман, навождение, будто Смердяков—одно, а Шиллер—совсем другое. Сбросьте с них эту скорлупу, шелуху, рассейте мираж, и только тогда вам откроется их подлинная вечная личность. И тогда вы внезапно поймете, что пресловутый Бержераковский нос, и запах Петрушки, и родинка карамазовской Грушеньки, и гениальность гения, и пошлячество пошляка—это не только не личность, не выражение личности, но это маска, ее закрывающая. Наша индивидуальность начинается там, где кончаются наши индивидуальные качества, и сквозь эти пестрые многообразные покровы поэт прозревает в каждом единую душу души:
Кто бы ты ни был,—я боюсь, что ты идешь по дороге сновидений,
И в чем ты так крепко уверен,—я боюсь, то уйдет у тебя из-под ног
и под руками растает.
И обличье твое, и твой дом, и слова, и дела, и тревоги, и твое ве-
селье
и твое безумство—
Все ниспадает с тебя, и твое настоящее тело, и твоя душа настоящая,
только они предо мною,
Ты предо мною стоишь в стороне от работы твоей и заботы, от купли-
продажи
, от фермы твоей и от лавки, от того, что ты ешь, что ты
пьешь, как ты скорбишь и умираешь...
Твой пошлый наряд, безобразную позу, и пьянство, и похоть, и ран-
нюю
смерть,—все я отброшу прочь...
Там, под спудом, внизу затаился ты настоящий,
И я вижу тебя, где никто не увидит тебя!
В этих великолепных словах поэт дает нам вечную, гранитную основу для утверждения демократического равенства: веру в мистическую сущность бессмертного человеческого я, и универсальную душу человека, открывающуюся во всех обличьях,—чтобы демократия "цветком, плодом, сиянием, светом вошла в человеческие нравы" и утвердила новую грядущую религию все-
 med.00152.037.jpg
med.00152.037.jpg
святости и человекобожия. Но именно это-то ощущение одинаковости всех человеческих душ и сделало его слепым к отдельным личностям. Славить без из'ятия каждую личность, это значит не славить ни одной,—и не даром во всей книге Уитмэна ни разу не изображен какой-нибудь своеобразный, самобытный человек с особенной, отдельной душой. Поэта демократии интересовало не то, чем люди непохожи друг на друга, а лишь то, чем они друг на друга похожи. Его глаз улавливает только типичное, и потому, повторяю, поэзия индивидуального, личного осталась чужда его книге.
Демократия принесла человечеству новое слово: товарищ. Чувство, что мы рядовые какой-то Великой Армии, которая без Наполеонов и маршалов идет от победы к победе, проникло уже в каждого из тех, кто заполняет сейчас площади, театры, банки, университеты, рестораны, кинематографы, трамваи современных многомиллионных городов.
Но это удивительное чувство, которое, как мы знаем, было так могуче в поэте, что повлекло его к раненым и умирающим в госпитали, в лазареты, на поля, залитые кровью,—это чувство во всей современной поэзии еще не нашло никаких выражений. Рыцарское преклонение пред женщиной, свойственное средним векам, культ Прекрасной Дамы, столь облагородивший половую любовь и заповедавший современному обществу какую-то прекрасную изысканность, ныне для нас недостаточны: грядущему человечеству нужен такой же культ—культ Товарища, культ демократической дружбы, ибо все больше и больше накопляется в сердцах у людей эта новая нежность, влюбленность в соратника, сотрудника, попутчика, в того, кто идет с нами в ногу, плечо к плечу, участвует в общем походе, и вот это неокрепшее чувство, зародыш, зачаток чувства поэт усилил в своей огромной душе, довел до воспаления, до той всепоглощающей грандиозной страсти, в которую, как он верит, оно преобразится потом при всемирном торжестве демократии.
Он и здесь предваряет грядущее. И если теперь его оды товарищу, тому, кого он зовет camerado, кажутся нам невозможными и напоминают серенады влюбленного,—так они чрезмерно-молитвенны, так пламенно-нежны,—то это потому, что еще не исполнились сроки, чтобы и в наших сердцах возгорелась такая великолепная страсть.
 med.00152.038.jpg
med.00152.038.jpg
В его книге есть целый альбом этих неслыханных любовных стихов.
Даже слова еще не нашлось для такого грядущего чувства. Формальное слово дружба нисколько не выражает его. Это скорее тревожная, жгучая, бурная влюбленность мужчины в мужчину, и без этого чувства, как верит поэт, демократия—только тень, только призрак:
"Вся сила свободы будет в этих влюбленных, весь залог равенства будет в этих друзьях. Или вы ищете, чтобы вас связали друг с другом чиновники? Или какой-нибудь договор на бумаге? Или оружие? Нет, целому миру и никому во вселенной вас так не связать".
IX.
Итак, вот главные черты демократической поэзии будущего, как они наметились в творчестве Уитмэна:
Во-первых, это—поэзия счастья. Такого оптимиста, как Уитмэн, еще не было во всесветной поэзии. Отчаяние, уныние, хандру Уитмэн всецело предоставил поэтам обреченных, отживающих классов; ибо не может не быть оптимистом поэт, связавший свою душу с такой растущей и жизнетворческой силой, как демократия, которой обеспечено столь прочное будущее, у которой—по истечени положенных сроков—будет во власти весь мир! Тот, кто говорит от лица демократии, не может не почерпнуть у нее ее инстинктивную, триумфальную радость, радость созидания нового культа, предчувствие великолепного будущего.
Во-вторых, это—поэзия науки, и, главным образом, естественных наук. Появление демократии на сцене современной истории недаром совпало с торжеством эволюционного учения о мире, с дарвинизмом, спенсеризмом и т.д. Всюду, где в последние годы нарождалась на Западе и у нас демократия, она тотчас же изгоняла из своего обихода ту завещанную средними веками схоластическую "риторико-филологическую" 1) псевдо-науку, которую с такой охотой культивировали привилегированные феодальные классы. Неот'емлемым достоянием демоса является всегда позитивизм, и Уитмэн не был бы великим поэтом, если бы это позитивистское ощущение мира не внушило ему истинно
По выражению Герцена. Собр. сочин. (Петр. 1917, IV, 378). med.00152.039.jpg
med.00152.039.jpg
религиозного пафоса. Он, если так можно выразиться,—мистик позитивизма, он претворяет ученые формулы Уоллеса, Геккеля, Спенсера в религиозные псалмы, в Апокалипсис: Встаньте же, время приблизилось мне перед вами открыться, Часы отмечают мгновения, но для вечности где часы? (См. стр. 83).
В этом хаотическом стихотворении нет ни единой строки, под которой не подписался бы наш К. А. Тимирязев или Сеченов.
В-третьих, как мы видели, эта поэзия есть поэзия миллионной толпы, всяческих широт и громадностей, невиданных, неслыханных чисел, поэзия, насыщенная чувством мировых просторов и далей. Только демократическая наша эпоха, давшая миру газету с ежедневными телеграммами, каблеграммами, радiо-телеграммами из Рио-Жанейро, Сиднея, Баку; биржу, в которой Москва связана с Нью-Йорком, Мадридом; кинематограф, где перед вами за гривенник пляшут под музыку Альпы,—только эта эпоха, все силы которой устремились на победу над пространством, могла внушить человеку такое новое небывалое чувство, и это чувство, несомненно, усилится, когда, благодаря авиации, Лондон пододвинется к Киеву и Париж станет близким соседом Афин.
В-четвертых, в этой поэзии чрезвычайно ослаблено внимание к единичным, индивидуальным явлениям и лицам; она бедна психологическими мотивами, анализом отдельных человеческих душ. Это характерно, ибо недаром у нас в России психологический роман достиг своего апогея в дворянской, не плебейской, среде. То копание в человеческих душах, виртуозами коего были усадебные наши писатели, не увлекает поэтов-плебеев.
В-пятых, как мы видели, это—поэзия товарищеской, дружеской любви, столь редкостной в былые эпохи. В-шестых, это—поэзия интернационала, всемирного братства народов, которое, впрочем, у Уитмэна всегда было связано с самым пламенным патриотическим чувством. В Америку он был влюблен, как в любовницу, и шумно признавался ей в любви, часто отождествляя ее с демократией, но таково уж было его ощущение, что без крепкого национального чувства истинное братство народов невозможно. Братство народов для него было почти совершившимся фактом: он знал, что раз это дело в руках у демократии,—оно будет доведено до конца. И в самые черные для демократии дни
 med.00152.040.jpg
med.00152.040.jpg
разбитый параличом, умирающий, он нацарапал дрожащей рукой такие пророчески-радостные каракули: Стерты рубежи между царствами... (См. стих. "Годы современные", стр. 97).
X.
Певучесть есть в морских волнах, Гармония в стихийных спорах, И стройный мусикийный шорох Струится в зыбких камышах. Ф. Тютчев.Один английский ученый историк сочинил об Уитмэне целую книгу, прекрасную, но в самом конце заметил, что Уитмэн все же ускользает от него. Книга осталась сама по себе, а Уитмэн сам по себе. И критик в отчаянии прибегает к последнему средству: к уподоблениям, к метафорам: "Уитмэн,—пишет он,—это чудище-бегемот: грозно он прет напролом сквозь заросли джунглей, ломая бамбуки и лианы, погружаясь в могучие реки, и сладострастно ревет в упоении от знойного дня. Уитмэн—огромное дерево, сказочное Древо Игдразиль, его корни в подземном царстве, а ветви его волшебной вершины закрыли собою все небо. Это—лось, это—буйвол, властительно настигающий самку, всюду за нею следующий в пустынной безмерности прерий. Его поэмы—словно кольца ствола какого-то кряжистого дуба. Уитмэн—это воздух, в котором струятся и зыблются неясные видения, миражи, какие-то башни, какие-то пальмы, но когда мы простираем к ним руки, они исчезают опять. Уитмэн—это земля, это весь земной шар: все страны, моря леса—все, что озаряется солнцем, все, что орошается дождями. Уитмэн—это все народы, города, языки, все религии, искусства, все мысли, эмоции, верования. Он—наш лекарь, наша нянька, наш возлюбленный", и т.д., и т.д., и т.д. 1).
Русский писатель Бальмонт подхватывает эти бессвязные речи:
"Уитмэн—сам Водяной. Он—морской царь; пляшет, корабли опрокидывает... Уольт Уитмэн есть Южный Полюс... Уольт Уитмэн—размах. Он—птица в воздухе. Он—как тот морской орел,
Symonds. "Walt Whitman". A Study, pp. 156-157. med.00152.041.jpg
med.00152.041.jpg
который зовется фрегатом: остро зрение у этой птицы, и питается она летучими рыбами и вся как бы состоит из стали: она как серп, как коса", и т.д., и т.д., и т.д. 1).
Уитмэн только поморщился бы, прочитав эти нарядные строки. Красивость претила ему. Вся эта эффектная риторика не для вселенского барда. "О если-б моя песня была проста, как голос животных, быстра и ловка, как движения рыб, как капание капель дождя. Будь я гениальнее Гомера, Шекспира, умей я слагать сладкозвучные песни,— Все это, о, море, я отдал бы с радостью, Лишь бы ты мнѣ дало колыхание твоей волны, Единый ее переплеск, Или вдохнуло в мой стих одно твое соленое дыхание, И оставило в нем этот запах.
Все книжное, условно-поэтическое, все тропы, фигуры, метафоры казались ему лживее лжи. Он уверял, будто каждую строчку создает на берегу океана, проверяя ее воздухом и солнцем. Ведь трава растет без метафор; и не ямбом, не дактилем струится река. Разве дерево, когда шумит листвою, заботится о каком-нибудь ритме? Уподобиться дереву, траве, реке—таков, по Уитмэну, идеал поэта. "Все поэты из сил выбиваются, чтобы сделать свои книги ароматнее, вкуснее, пикантнее, но у природы, которая одна мне была образцом, такого стремления нет",—писал Уот Уитмэн.—"Человек, имея дело с природой, постоянно норовит приукрасить ее. Скрещиванием и отбором он усиливает запахи и колеры цветов, сочность плодов и т.д. То же самое он делает в поэзии: добивается сильнейшей светотени, ярчайшей окраски, острейшего запаха, самого "ударного" эффекта. Поступая так, он изменяет природе". Отсюда нарочитая неотесанность, грубость уитмэнского языка. В поэзию он вводит такие слова, что не всякий прочтет их вслух; но ведь буйволов они не сконфузят.
И долго держалась легенда, будто его стихи так же необдуманны, внезапны и дики, как рычание лесного зверя. Он сам этой легенде потворствовал. "Тот не поймет моей книги, кто захочет смотреть не нее, как на литературное явление, с эстетическими или художественными задачами",—повторял он на все лады.—"Среди книг я лежу дураком, как немой, как нерожден-
"Перевал" 1907, III; "Уольт Уитмэн. Побеги травы". Предисловие. med.00152.042.jpg
med.00152.042.jpg
ный, как мертвый". Но вот в 1899 году один душеприказчик поэта обнародовал его черновики, первоначальные наброски, варианты, и обнаружилось, что каждый эпитет, каждое небрежное слово—плод долгих исканий и опытов 1). Даже странно читать, сколько правил и догматов, именно литературных, эстетических, внушал себе сам этот поэт-Бегемот. О стиле, об эпитетах, о метрике у него есть целые трактаты. В его безыскусственности так много искусства! Столько сложности в простоте! "Даже в самом отказе своем от художества он оказался художником!"—говорит о нем Оскар Уайльд и блестяще доказывает, что пресловутая его первобытность была чисто-литературным явлением 2). Этот дикий "морской орел" прекрасный теоретик искусства. Но, конечно, все его схемы были бы бесплодны и мертвы, если бы сквозь них не прорывалось шамански-экстатическое вдохновение. Полжизни он таил его от всех, даже от себя самого, полжизни ходил, как немой, именно потому, что те внешние формы, в которых его вдохновение могло бы излиться, еще не были им изобретены. Он должен был стать Эдиссоном своего собственного слога и стиля, кропотливо искать и обдумывать, чтобы наконец-то его "варварский визг" мог как-нибудь прорваться наружу. И результаты оказались разительные. Неправильный, будто бы пьяный ритм его стиха, в сущности, так податлив, так гибок, так нервно и чутко подчинен каждой мимолетной эмоции, что никакие гладко-размерные строфы не могли бы состязаться с ним. Каждому биению крови соответствует свой размер, и в пульсации разнообразных темпов чувствуешь пульсацию сердца, словно ты приложил к нему руку. "Слова моей книги—ничто, порыв ее—все". Отсюда это изумительное впечатление, будто у него не описание страсти, а самая страсть, и даже когда он пишет о своих любовных ночах, кажется, он пишет на брачной постели, тут же в об'ятиях женщины, чтобы каждый ритм его буйно-страстных порывов был передан ритмом стиха. Потому-то он и в праве сказать о своей единственной книге: Камерадо! Это не книга: Кто коснется ее, тот коснется меня.
Richard Maurice Bucke. "Notes and Fragments Left by Walt Whitman". Эта газетная статья Оскара Уайльда на русский язык не переведена. Я познакомился с ней по 13-томному изданию Метуэна. Она назывется The Gospel According to Walt Whitman и напечатана среди его Reviews. med.00152.043.jpg
med.00152.043.jpg
А если вся книга—он сам, если в ее слоге, в ея стиле отражается его походка, его кровообращение, его аппетит, то вся эстетика в нем же самом. Нужно думать не о дактилях или спондеях, не о косметических прикрасах стиха, не о фигурах и тропах, а только о себе, о душе. Чтобы создать поэму, ты должен создать себя. Усовершенствуй свой дух, и ты усовершенствуешь свой стиль. "Пойми, что в твоих писаниях не может быть ни единой черты, которой не было бы в тебе же самом. Если ты злой или пошлый, это не укроется от них. Если ты любишь, чтобы во время обеда за стулом у тебя стоял лакей, это скажется в твоих писаниях. Если ты брюзга, или завистник, или не веришь в загробную жизнь, или низменно смотришь на женщин,—это скажется даже в твоих умолчаниях, даже в том, чего ты не напишешь. Нет такой уловки, такого приема, такого рецепта, чтобы скрыть от своих писаний хоть какой-нибудь свой из'ян",—твердил поэт, обращаясь к себе самому перед тем, как создать свою книгу. Таким образом, его пиитика вся преображается в этику,—сказалась-таки пуританская кровь! Готовясь служить искусству, он прописывает себе строгую диэту; приступая к поэтическому подвигу, он заповедует себе самому: вот что ты должен делать: люби солнце, землю, животных; откажись от богатства; отдай свою жизнь ближнему; ненавидь угнетателей; не думай о Боге; не кланяйся никому и ничему,—и самое тело твое станет великой поэмой, и даже молчащие губы будут у тебя красноречивы. В этих суровых канонах виден великий эстет. Он знает, что красота не в отдельных деталях, как бы они ни были изящны, а в гармонии всех деталей, как бы они ни были уродливы. Он не хочет создавать поэмы: он хочет вдохнуть в нас свой дух, чтобы вместо него мы сами создали поэмы для себя: Побудь этот день, эту ночь со мною, И ты сам станешь источником всех на свете поэм. Он жаждет заразить нас собою: не образы создать, а импульсы.
Он хотел бы стать этакой динамо-машиной, от которой к каждому шел бы могучий электрический ток. Но чтобы другие могли заразиться тобою, умей и сам заразиться их душами!
—У раненых я не пытаю о ране, я сам становлюсь тогда раненым,—здесь величайший эстетический принцип, который
 med.00152.044.jpg
med.00152.044.jpg
только знает искусство. Не нужно описывать вещи, нужно отождествлять себя с ним:
Когда ловят воришку, то ловят и меня, мы оба—на скамье подсуди-
мых, нас обоих сажают в тюрьму.
Умирает холерный больной, я тоже умираю от холеры.
Лицо мое стало, как пепел, у меня корчи и судорги, люди убегают
от меня.
Нищие в меня воплощаются, я воплощаюсь в них,
Я конфузливо протягиваю шляпу, я сижу и прошу подаяния.
Доведи свое сорадование, сострадание, сочувствие до полного слияния с чужою душою, преобразись, превратись в того, о ком ты поешь или плачешь, и все остальное приложится: ты найдешь и прекрасные образы, и мудрые эпитеты, и тонко-изощренные ритмы. Высшее напряжение любви будет высшим триумфом искусства. Воистину, такая эстетика могла возникнуть только в демократии, котарая так богато насыщена чувством всяческого равенства и тождества.
XI.
Я уже упоминал о том письме, которым знаменитый Эмерсон приветствовал неведомого Уитмэна, только-что издавшего свою первую книгу. Приведу это письмо целиком:
"Конкорд, Массачузетс, 21 июля 1855 года."
Милостивый государь!
Только слепой не увидит, какой драгоценный подарок ваши "Побеги травы". Мудростью и талантом они выше, самобытнее всего, что доселе создавала Америка. Я счастлив, что читаю эту книгу, ибо великая сила всегда доставляет нам счастье. Это именно то, чего я всегда добивался, потому что слишком бесплодны и скудны становятся здесь, на Западе, души людей, будто они изнурились в чрезмерной работе, или у них малокровие, и они обрюзгли, разжирели. Поздравляю вас с вашей свободной и дерзкой мыслью. Радуюсь ей бесконечно. Для своих несравненных образов вы нашли несравненные слова, как раз такие, какие нужны. Всюду обаятельная смелость манеры, которую может внушить только истинная широта мировоззрения.
У порога великого поприща приветствую вас! К этому поприщу вас несомненно привел какой-то долгий и трудный путь.
 med.00152.045.jpg
Я вначале протирал глаза: не во сне ли вижу этот солнечный луч, но идеи вашей книги, слава Богу, прочная реальность, действительность. Их величайшее достоинство в том, что они бодрят и подкрепляют.
Мне так захотелось увидеть моего благодетеля, что я чуть было не забросил работу и не поехал в Нью-Йорк, чтобы засвидетельствовать вам уважение.
Р. В. Эмерсон".
med.00152.045.jpg
Я вначале протирал глаза: не во сне ли вижу этот солнечный луч, но идеи вашей книги, слава Богу, прочная реальность, действительность. Их величайшее достоинство в том, что они бодрят и подкрепляют.
Мне так захотелось увидеть моего благодетеля, что я чуть было не забросил работу и не поехал в Нью-Йорк, чтобы засвидетельствовать вам уважение.
Р. В. Эмерсон".
"Дорого заплатит мистер Эмерсон своей репутацией за тот пыл, с которым он ввел Уота Уитмэна в американское общество",—соображали журналы, когда Уитмэн, ко всеобщему скандалу, самовольно напечатал в следующем издании "Побегов травы" это частное, интимное письмо. Американцы были до того смущены, что, по словам Платта, предпочитали думать, будто их Эмерсон на время сошел с ума. У Эмерсона в ту пору было влияние огромное. Янки звали его своим литературным банкиром. Они говорили, что бумаги, прошедшие через его руки, и монеты, прозвеневшие у него на столе, без опаски принимаются всюду всеми другими конторами. Но и он рисковал обанкротиться, повышая акции Уитмэна. Впрочемъ, нужно отметить, что его энтузиазма хватило только на одно это письмо. Вскоре он познакомился с Уитмэном лично и... почти охладел к его книге. Во всяком случаѣ, через несколько месяцев, посылая в Англию "Листья Травы" своему любимому философу Карлейлю, Эмерсон пишет о них без прежней уверенности, двусмысленно и даже иронически: "В Нью-Йорке нынешним летом появилась некая книга,—невообразимое чудище, пугало со страшными глазами и с силой буйвола,—насквозь американская книга,—я было думал послать ее вам, но кому я ни давал ее прочесть, всем она внушала такой ужас, все видели в ней столько безнравственности, что я, признаюсь, воздержался. Но теперь, быть может, и пошлю. Она называется "Листья Травы", была написана и собственноручно набрана одни типографским наборщиком из Бруклина, неподалеку от Нью-Йорка, по имени Вальтер Уитмэн. Пробегите ее и, если вам покажется, что это не книга, а просто список разных товаров, предназначенных для аукциона, раскурите ею свою трубку..."
 med.00152.046.jpg
med.00152.046.jpg
Главное, что смущало Эмерсона в книге Уитмэна,—это "Адамовы Дети". Так были озаглавлены стихи, посвященные половым страстям.
Эти стихи, как известно, вызвали в филистерских кругах ни с чем несравнимую панику, но нужно ли указывать, что великая тайна рождения, "посев человеческих душ"—для Уитмэна не скабрезный секрет, а неизреченное религиозное таинство. В минуты брачных экстазов он, по словам его книги, чувствует себя причастником вечности, касается каких-то внемирных высот, выходит за грани своего бытия, освобождается от призрачных оков времени, пространства, причин и целей, от иллюзии своего самоценного я; для него эти мистически-страшные, испепеляющие душу мгновения служат верным, неопровержимым залогом божественной сущности мира: Прямо смотрю я из времени в вечность И пламя твое узнаю, солнце мира. (Фет).
Такое чувство в его книге всегда, но сильнее всего оно именно в эти минуты, которые у него так экстатичны, что, кажется, продлись они долее, его сердце разорвалось бы от них: О, брак! О, брачный восторг! Если бы ты продлился дольше этого краткого мига, Ты непременно убил бы меня!
Уитмэн, как индусы, как Андрей Белый, или Фет, или Блэк, чувствовал всей своей кровью, что от звездного неба до малой пылинки все в мире воплощение божественного. Хотя он с таким рубенсовским фламандским плотолюбием изображал наш осязаемый мир,—амбары, погребальные дроги, женщин, жеребцов, маляров,—он все же никогда не забывал, что все это майя, "миражи на пути сновидений", что— ...люди, животные, травы— Только привидения, не больше, и жаждал эти привидения рассеять, увидеть то, что сокрыто за ними, за "предметами предметного мира". Одним из путей к этой божественной Сущности были для него половые восторги: здесь для него полное освобождение от всяческих пут бытия:
 med.00152.047.jpg
med.00152.047.jpg
Это—женское тело.
Я как беспомощный пар перед ним, все с меня упадает тогда.
Книги, искусства, религия, время, и то, чего я ждал от небес, и то,
что меня ужасало в аду,—
Все исчезает пред ним,—
читаем мы в одной его поэме. В другой—он кричит своей "сораспятой" жене:
Что это в вихрях и бурях освобождает меня?
О чем, отчего я кричу среди молний и лютых ветров?
О, загадка, о, трижды-завязанный узел, о, темный, глубокий омут,—
сразу распуталось все и озарилось огнемъ!
О, наконец-то умчаться туда, где достаточно простора и воздуха!
О, вырваться на волю от прежних цепей,—ты от твоих и я от моих,
Снять наконец-то замок, замыкавший уста,
Сорваться со всех якорей!
Вот что такое были для него половые миги (native moments): огненное озарение омута жизни, очистительное грозовое крещение. То, что для многих—источник экивоков и хихиканий, для Уитмэна есть путь к боговидению. В личной жизни Уитмэн был даже как-то нарочито, преувеличенно чист. Никто даже из самых близких друзей не слыхал от него никогда ни одного непристойного слова. Он всюду вносил с собою атмосферу целомудренной опрятности 1).
Темные "гиероглифы пола" имели у нас в России своего истолкователя—Розанова. Было бы весьма поучительно сопоставить брачные песнопения Уитмэна с писаниями русского автора. Оказалось бы, что эти два человека, ничего друг о друге не знающiе,
Теперь кажутся чрезвычайно забавными те негодующие ханжеские рецензии, которыми в Америкѣ и в Англии были встречены "Адамовы дети". Недавно перелистывая фундаментальный английский журнал "Westminster Review" за 1860 г., я наткнулся на такую заметку:"Если бы творения мистера Уитмэна были напечатаны на бумаге столь же грязной, как они сами, если бы книга имела вид, обычно присущий литературе этого сорта,—литературе, недостойной никакой иной критики, чем критика полицейского участка, мы обошли бы эту книгу молчанием, так как, очевидно, она не имеет никакого касательства к той публике, с которой беседуемъ мы. Но когда книжка, содержащая в себе такое количество наглого бесстыдства и грязи, какое может в ней уместиться, преподносится намъ во всем блеске типографского искусства, то...", конечно, отсюда для английского Передонова явствует, что нравственное разложение Соединенных Штатов чревато роковыми последствиями.
Кто этот писака, неизвестно. Его эфемерное имя давно уже кануло в Лету, а имя Уитмэна—слава Америки—гремит на четырех континентах.
 med.00152.048.jpg
med.00152.048.jpg
отрезанные друг от друга океаном, разделенные многими десятками лет, как заговорщики, вещали невнемлющему и равнодушному миру одну и ту же—никому, кроме них, недоступную—истину о трансцендентной магической сущности Пола. Все самые прихотливые домыслы Розанова о том, что душа это—пол, что всякая религия струится от пола, что наша человеческая многосложная личность есть только модификация, трансформация пола, что гений есть половое цветение души, что чадозачатие есть главный мистический акт, где человек актом участия своего сводит душу с домирных высот, что вдохновение пророка, поэта, ученого есть вдохновение пола,—все эти ощущения Розанова были предвосхищены Уотом Уитмэном. Конечно, Розанов—исхищренный, извилистый, кокетливо-лукавящий писатель, а Уитмэн—варварски прямолинеен, без оттенков и тонкостей, но тема у них—одинаковая, и даже—в основном и главнейшем—излагают они ее одинаково, словно списывая один у другого. Правда, Уитмэн высказывает свои ощущения в виде кратких категорических формул, словно высеченных раз навсегда на граните, а Розанов дребезжит и хлопочет, но если к лаконическим стихам Уота Уитмэна пришить такие статьи В. В. Розанова, как "Афродита и Гермес", "Семья как религия", "Из загадок человеческой природы", "Колеблющиеся напряжения в поле",—эти статьи показались бы комментариями, специально написанными для истолкования Уитмэнова текста.
Уот Уитмэн, например, говорит: Мой пол, это—кормчий всего моего корабля... Бедра, груди, сосцы, это—не только поэмы тела, Это поэмы души, и сами они—душа. Пол—вместилище плотей и душ; Если тело мое не душа, что же тогда душа?
И Розанов, словно комментируя эти вещания, пишет: "Центр души лежит в поле. Душа и пол идентичны. Утрата динамического в поле параллельна утрате динамического в душе. Душа имеет в себе пол. Пол в нас и есть душа".
Уот Уитмэн повторяет многократно: Нет на свете святыни, если тело человека не свято... Боги исходят из пола...
 med.00152.049.jpg
med.00152.049.jpg
И Розанов твердит вслед за ним: "Самое существо, ткань, жизнебиение человека есть молитва. Акт супружеской любви есть акт религиозного культа. Пол и действительная религия имеют корневое тождество. А-сексуалисты есть в то же время и а-теисты. Пол это—ковчег, где сокровенно сохраняется какая-то вещая и неистощимая, льющаяся в мир святость".
Уитмэн говорит: Мои песни омыты Полом, Бедрами моими рождены.
Розанов: "Мысль, гений, всякие прозрения философские лучатся из пола. Толстой, Лермонтов и Достоевский—чресленные, беременные писатели, потому-то их творения гениальны, потому-то им и дано мистическое чувство вечности, чувство соприкосновения нашего таинственным мирам иным". 1).
Неизсякаемость наших рождающих недр, непрерывность нашего многовекового отцовства, ветвление и ветвление человека"—для них обоих религиозная радость. Уитмэн о каждом мужчине твердит: Он не один, он отец тех, кто станут отцами и сами, Многолюдные царства таятся в нем, гордые, богатые республики, И знаете ли вы, кто придет от потомков потомков его!
А Розанов вслед за ним слово в слово: "Человек живет целой колонийкой через 200 лет, целым селом через 400 лет, целым народом через 1000 лет. Я не умираю вовсе, а умирает только мое сегодняшнее имя. Тело же и кровь продолжают жить—в детях, в их детях снова, и затем опять в детях—вечно!"
Любопытно, что распаляемый этой мыслью Розанов начинает писать уитмэнским стилем, ничего никогда не слыхавши об Уитмэне:
Но Розанов весь в византийской схоластике, в древнем отживающем быту. Дерзостно потрясая вселенную своими осаннами фалическому богу-животному, он все же ни на миг не забывает от догматах казенного синода. med.00152.050.jpg
med.00152.050.jpg
Я размножился—и живу в детях, внуках, в сотом поколении—
Я тысячею рук работаю в человечестве,
Я обоняю все запахи мира,
Делаю все профессии...
Адам—я, бесконечный потомок наш,
Меняющий лица, ремесла и обитаемые страны, учащийся или хлебо-
пашествующий, несчастный и счастливый, но один.
Но сексуальность Уитмэна идет еще дальше, чем Розановская. Розанов никогда не сексуализировал мир, а Уитмэну часто все видимое казалось воплощением пола: ствол орешника, шелуха скорлупы, зреющие и созревшие орехи, запах лимонов и яблоков, безумная летняя голая ночь— У тебя обнаженные груди, Крепче прижмись ко мне, магнетически пьянящая ночь.
Даже землю он любил, как жену: Ты далеко разметалась, земля, вся в ароматах зацтветших яблонь. Улыбнись, потому что пришел твой любовник.
В нашем современном быту, где супружество—какая-то рабья повинность, эти песни кажутся столь неуместными, словно они спеты на самой далекой планете для существ, непохожих на людей, но ведь Уитмэн пел не для своих современников, а для будущих—перерожденных свободою душ. Он так явственно видел тот празднично-радостный быт, который рано или поздно будет нашим, что заранее—пророческой мечтою—жил в этом вожделенном быту, словно этот быт давно уже стал действительностью, словно каждый из нас—давно полновластный хозяин вселенной. Женщины, которым он посвящает поэмы, созданы этим будущим бытом: это не рабыни будуаров и обывательских семейных очагов, а вольные матроны-атлетки, взлелеянные демократическим веком:
От пламенных солнц и буйных ветров у них загорелые лица,
Божественна древняя гибкость их тел,
Они умеют скакать на коне, плавать, грести, бороться, бегать, стре-
лять, отступать, нападать, защищаться.
Они ясны, гармоничны, спокойны.
На дуалистическом противоположении плоти и духа зиждилась вся средневековая культура, пережитками которой и доселе живет наше европейское общество. Уитмэн, переселившись меч-
 med.00152.051.jpg
med.00152.051.jpg
тою в грядущую эпоху Науки и Демократии, естественно почувствовал себя освобожденным от всяких навождений аскетизма. Он не был бы поэтом науки, если бы в природе человека нашел хоть что-нибудь ничтожным, нечистым, презренным: для науки ничто не ничтожно, она не презирает ничего. Он не был бы поэтом демократии, если бы для органов тела ввел какую-то табель о рангах, разделил их на дворян и плебеев, на белую и черную кость, если бы они не были для него равноправны, если бы он каждому из них не предоставил свободы—выражать себя наиболее полно. Здесь для него—ни высших, ни низших, никакой иерархии,— Брачная ночь у меня в таком же почете, как смерть, Кожа, веснушки и волосы, Ребра, живот, позвоночник, суставы спинного хребта, Все очертания мужского или женского тела, все позы, все его части... для Уитмэна демократически равны между собой, и это для него не доктрина, не голая формула, а живое, тревожное чувство...
Нисколько ни странно, что Эмерсон, которого Уитмэн звал своим учителем, духовным отцом, оказался горячим противником этих сексуальных поэм. Зимою 1860 года, когда Уитмэн подготовлял к печати третье издание своей книги, Эмерсон внезапно явился к нему и стал настойчиво требовать, чтобы он из'ял из нее эти непристойные строки.
"Ровно двадцать один год назад,—вспоминает в своих мемуарах поэт,—добрых два часа прошагали мы с Эмерсоном по Бостонскому лугу под старыми вязами. Был морозный ясный февральский день. Эмерсон, тогда в полном расцвете всех сил, обаятельный духовно и физически, остроумный, язвительный, с ног до головы вооруженный, мог, по прихоти, свободно властвовать над вашим чувством и над вашим разумом. Он говорил, а я слушал—все эти два часа. Доказательства, примеры, убеждения,—вылазки, разведки, атака (словно войска: артиллерия, кавалерия, инфантерия!),—все было направлено против моих "Адамовых детей". Дороже золота была мне эта диссертация, но странный, парадоксальный урок извлек я тогда же из нее: хотя ни на одно ее слово я не нашел никаких возражений, хотя никакой судья не выносил приговора убедительнее, хотя все его доводы были подавляюще неотразимы, все же в глубине души я чувствовал
 med.00152.052.jpg
med.00152.052.jpg
твердую решимость не сдаваться ему и пойти своим неуклонным путем.—Что же вы скажете на это?—спросил Эмерсон, закончив свою речь.—Cкажу лишь одно: вы правы во всем, у меня нет никаких возражений, тем не менее после ваших речей я еще крепче утвердился в своей вере и намерен еще ревностнее ее исповедывать..."
"После чего,—прибавляет Уитмэн,—мы пошли и прекрасно пообедали в ресторане American House".
В исповедании своего символа веры он вообще был гениально упрям. Когда раз'яренная критика проклинала его книгу за безнравственность, он, издавая эту книгу вторично, не только не исключил из нее тех стихов, которыми все возмущались, но усугубил ее непристойность, включив еще более жгучие строки, как, напр., "Женщина ждет меня" и т.д. В 1881 году кго книгу взялась издавать солиднейшая американская фирма Озгуда, и, когда книга была отпечатана, издательство, по настоянию бостонских властей, предложило поэту из'ять из нее некоторые неудобные строки. Поэт ответил безапелляционным отказом, хоть это и грозило ему разорением, ибо он знал, что издатели не согласятся печатать и распространять его книгу. Мало того, он потребовал, чтобы после его смерти никто не смел издавать "Листья травы" без этих "непристойных" стихов.
XII.
Едва только Уитмэн издал свою книгу, как его, по совету Эмерсона, посетил молодой журналист Монкюр Д. Конвей—в сентябре 1855 года. Уитмэн жил тогда вместе с матерью на своем родном Долгом Острове. "Жара стояла страшная,—пишет Конвей.—Термометр показывал 35 градусов. На выгоне хоть бы деревцо. Нужно быть огнепоклонником, и очень набожным,—думалось мне,—чтобы удержаться под этаким солнцем. Куда ни глянешь, пусто—ни единой души. Я уже готов был вернуться, как вдруг увидал человека, которого я искал. Он лежал на спине и смотрел на мучительно-жгучее солнце. Серая рубаха, голубовато-серые брюки, голая шея, загорелое, обожженное солнцем лицо; на бурой траве он и сам часть земли: как бы не наступить на него по ошибке. Я подошел к нему, сказал ему свое имя, об'яснил, зачем я пришел, и спросил, не находит ли он,
 med.00152.053.jpg
med.00152.053.jpg
что солнце жарче, чем нужно.—Нисколько!—ответствовал он. Здесь, по его словам, он всего охотнее творит свои "поэмы". Это его любимое место. Потом он повел меня к себе. Крошечная комнатка, в пятнадцать квадратных футов, глядит своим единственным окном на мертвую пустыню острова 1); узкая койка; рукомойник, зеркальце, прибитое к стене, сосновый письменный столик, с перьями, бумагой и чернильницей. На одной стене гравюра Бахус, на другой, насупротив, Силен. В комнате ни единой книжки... У него, говорил он, два рабочих кабинета—один на верхушке омнибуса, другой на той небольшой пустынной груде песку, которая зовется Coney Island. Много дней проводит он на этом острове в полном одиночестве, как Робинзон. Литературных знакомств у него нет, если не считать той репортерской богемы, с которой он сталкивается иногда у Пфаффа.
"Мы пошли с ним купаться, и я, глядя на него, невольно вспомнил Бахуса там на гравюре. Жгучее солнце облекло бурой маской его шею и его лицо, но тело осталось ослепительно-белое, нежно-розовое, с такими благородными очертаниями форм, замечательных своей красотой, с такою грацией жестов... Его лицо—совершенный овал; седоватые волосы низко острижены и вместе с сединой бороды так красиво нарушают впечатление умилительной детскости его лица. Первую радостную улыбку заметил я у него, когда он вошел в воду. Если он говорит о чем-нибудь увлекательном, его голос, нежный и мягкий, замедляется, и веки имеют стремление закрыться. Невозможно не чувствовать каждую минуту истинности всякого его слова, всякого его движения, а также удивительной деликатности того, кто был свободен со своим пером".
Статья Конвея была напечатана в "Fortnightly Review" 15 окт. 1866 года. Дальнейших ее строк не привожу, так как, по свидетельству многих 2), они не вполне достоверны. Янки-журналист переусердствовал и, по репортерскому обычаю, сделал из Уота Уитмэна такую эффектную фигуру, что потом и сам призна-
Уитмэн родился в 30 милях от Нью-Йорка, на Долгом Острове (Лонг-Айленде), близ города Хентингтона. Это длинная полоса земли, имеющая форму рыбы. Прежнее индейское название острова—Поманок. Хотя бы О'Коннора—въ письмѣ к Таубриджу (см. Bliss Perry "W.W.", p. 180). med.00152.054.jpg
med.00152.054.jpg
вался в фантастичности своего рассказа. (См. Léon Bazalgette. Walt Whitman. L'Homme et son oeuvre. Paris. 1908. p. 154—156. Isaak Hull Platt. Walt Whitman. Boston, 1904, p. 34).
* * *
Генри Торо, этот американский Руссо, которым у нас в России почему-то не умеют восхищаться, и книга которого Вальден, переведенная на русский язык, по какой-то странной причине не составила у нас эпохи, тоже около этого времени посетил Уота Уитмэна. В письме к одному знакомому он так описывает свои впечатления:
"Быть может, Уитмэн—величайший в мире демократ... Замечательно могучая, хотя и грубая натура. Он в настоящее время интересует меня больше всего... Я только что прочитал его книгу, и давно уже никакое чтение не делало мне столько добра. Он очень смелый и очень американский. Я не думаю, чтобы проповеди, все до единой, сколько их ни было, могли бы сравняться с его книгой. Мы должны радоваться, что он появился. Порою мне в нем чудится сверхчеловеческое. Его не смешаешь с другими жителями Бруклина или Нью-Йорка. Как они должны дрожать и корчиться, читая его. Это-то в нем и превосходно. Правда, порою мне кажется, что он меня надувает. Он такой широкий и щедрый; и только что моя душа воспарит и расширится, и ждет каких-то чудес, словно возведенная на какой-нибудь холм,—как вдруг он швырнет ее вниз,—вдребезги, на тысячу кусков! Хотя он и груб, и бывает бессилен, он—великий первобытный поэт, его песня—трубный глас тревоги, зазвучавший над американским лагерем. Странно, что он так похож на индусских пророков; а когда я спросил его, читал ли он их, он ответил: нет; расскажите о них" 1).
* * *
До сих пор еще жив широкоплечий веселый старик, ирландец Питер Дойл, сын кузнеца, кондуктор, ближайший прия-
Влияние индусов на Уитмэна установлено теперь с полной точностью. Характерно, что знаменитый индусский поэт Рабиндранат Тагор, наш современник, разительно сходствует с Уитмэном. (См. сборник "Слово", I, 1913, стр. 131). med.00152.055.jpg
med.00152.055.jpg
тель Уитмэна. О нем я уже говорил. Ему не было и двадцати, когда сорокалетний поэт познакомился с ним в Вашингтоне и привязался к нему, как к родному.
Это пылкое влечение Уитмэна к мужчине, к товарищу, особенно ярко сказавшееся в том цикле его поэм, который называется "Тростник", всегда смущало его комментаторов. "Право, есть какое-то сладострастие в мысли Уитмэна о таком единении мужчин",—пишет Саймондс и не без тревоги цитирует слишком пламенные строки "Тростника":
Кто бы ты ни был, держащий теперь меня за руку,
Будет все бесполезно, если нет у тебя одного.
И я говорю берегись, кто хочет ближе подойти ко мне,
Я совсем не то, чем ты считал меня.
Ты хочешь пойти за мною?
Ты хочешь поступить в кандидаты моей благосклонности?
Знай же, что путь подозрителен, исход неизвестен; быть может, в нем
гибель.
Ты должен отречься ото всего, я буду твой единственный закон.
Твой искус будет долог и труден.
Нет, лучше теперь же расстанься со мною и без лишних хлопот сними
с моего плеча твою руку.
Оттолкни меня прочь и ступай своею дорогой.
А не то проберемся куда-нибудь в чащу, там я тебя испытаю,
Спрячемся за скалою на вольном ветру!
Или, быть может, на высоком холме, оглядевшись на милю вокруг,
чтобы никто не явился нежданно,
Или в море далеко уплыв, или на берег моря, или на остров
пустынный,
Твои губы к моим я позволю тебе прижать
В долгом поцелуе товарища или новобрачного мужа,
Потому что я для тебя и товарищ, и новобрачный муж.
Если же ты согласишься и допустишь меня под одежду,
Я послушаю, как сердце стучит у тебя и отдохну у тебя на бедре.
И бери меня с собой, куда хочешь, по земле и по морю,
Прижаться к тебе—мне довольно, я счастлив,
Вечно дремал бы, к тебе прижимаясь, бери же меня, куда хочешь!
Но, вникая в эти листья, ты можешь погибнуть;
Вначале они обманут тебя, а потом обманут еще больше, я же обману
тебя непременно,
Чуть ты помыслишь, что ты меня настиг, тут-то я ускользну от тебя.
Ибо не ради того, что я вложил в эту книгу, я написал эту книгу,
И не чтеньем познается она,
И не те, которые неумеренно хвалят меня, не те, которые восхищаются
мною, знают меня лучше всего.
 med.00152.056.jpg
И не только добро мои песни творят, они творят столько же зла, а
med.00152.056.jpg
И не только добро мои песни творят, они творят столько же зла, а
может быть больше.
Потому что все бесполезно, если нет у тебя одного, о чем ты мог бы
догадаться, на что я намекал тебе не раз,
Отпусти же меня и ступай своей дорогой.
Критикам кажется странным, что "среди священных эмоций и социальных добродетелей, которым суждено пересоздать нашу политическую жизнь и скрепить, как цементом, все народы, Уитмэн признает напряженную, ревнивую, бурную, чуткую, тревожную любовь мужчины к мужчине, любовь, которая томится в разлуке, вянет без взаимности, оживает при возвращении любимого; находит радость в уединенности, в касании рук и губ, в об'ятиях",—хотя поэт и клеймит позором всякие гнусные выводы, которые могут быть злонамеренно сделаны из его возвышенной доктрины.
Дело дошло до того, что один почитатель Уитмэна обратился к нему с недвусмысленным вопросом: как понимать эту чрезмерную дружбу, и нет ли в ней автобиографических черт; Уитмэн ответил, что у него шестеро детей, и что, значит, его отношения к женщинам были даже слишком нормальны, так что напрасно писатели по половым вопросам торопятся зачислить его, как и многих других величайших людей, в ряды извращенных суб'ектов. Прекрасную отповедь этим писателям дал немецкий романист Iоганнес Шляф, автор монографии об Уоте Уитмэне. Он озаглавил свою статью: "Правда ли, что Уот Уитмэн гомосексуалист?" и наголову разбил пресловутого доктора Бертса, который доказывал, что Уитмэн, как Шекспир, как Платон, был данник однополой любви (Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen, 1905).
"Для тех, кто научился читать Уота Уитмэна,— справедливо говорит Базальжет,—кто проник в самую суть его личности, ясна вся ребячливость такого толкования. Как хочешь разбирай его творчество, заглядывай во все уголки его жизни, и все же не найдешь ничего, что было бы противно природе: все так же естественно в нем, как в растении, в животном, в воде, в ветре, в солнечном свете, и на каждом шагу натыкаешься на новые и новые свидетельства его феноменального душевного здоровья".
"Я уверен, что для нашей молодежи его дух был бы спасителен и плодотворен",—пишет John Addington Symonds в известном этюде об Уитмэне.—"Позволю себе рассказать, как много он сделал для мнея. Подобно большинству аристократов, я воспиты-
 med.00152.057.jpg
med.00152.057.jpg
вался в Гэрроу и Оксфорде, где, по слабости здоровья, больше предавался наукам, чем спорту, и был на пути к тому, чтобы сделаться скучнейшим педантом. В 1865 году здоровье мое так расшаталось, что, казалось, всякое житейское поприще было предо мною закрыто. Осенью того же года мой товарищ проф. Майерс прочитал мне вслух одну поэму из "Листьев Травы". Предо мной, как сейчас звучит его мелодичный голос, проникающий электрическим током в самые недра моего существа. Но недаром я двадцать лет был погружен в греко-латинскую культуру: мои академические предрассудки, мои литературные вкусы, изысканность и исключительность аристократического моего воспитания,—все это восстанавливало меня против заскорузлого, нескладного и грубо-угловатого поэта. Его стиль возмущал меня, но вскоре Уот Уитмэн вполне излечил мою душу от этих постыдных немощей. Он научил меня понимать всю гармонию демократического и научного духа—с той широкой всеоб'емлющей религией, к которой современное человечество направляется идеями всеобщего братства и научного постижения мира. Он придал плоть и кровь, конкретную жизненность тому религиозному чувству, которое слагалось во мне под влиянием Гёте, римских и греческих стоиков, Джордано Бруно и основателей эволюционной доктрины. Он вселил в меня веру и заставил почувствовать, что оптимизм не блажь, не бессмыслица. Он радовал меня и облегчал в те черные, злые годы вынужденного безделья и умственного застоя, на которые обрек меня недуг. И что дороже всего, он помог мне избавиться от мелочности, узости и многих предрассудков нашего ученого сословия. Он открыл мне глаза на то, как благостна, красива, велика всякая человеческая личность, в каком бы положении она ни была. Благодаря ему я братски породнился со всеми нациями и сословиями, без различия веры, касты, религии, образования. Ему я обязан лучшими своими друзьями—сынами земли, черно-рабочими, теми "малограмотными силачами", которых он любил воспевать".
* * *
Но характерно, что величие Уитмэна признавали на первых порах только великие люди. В широких же литературных кругах к нему и посейчас не благосклонны. У английских и американских критиков установился особый тон—полунасмешливый, полу-
 med.00152.058.jpg
med.00152.058.jpg
почтительный,—и предлагаемый отрывок, я думаю, вполне определит для читателя, как принято писать об Уоте Уитмэне в либерально-филистерских кругах. Это—из книги мистера Джона Николя "История американской словесности".
"Подстать огромному телу,—пишет почтенный автор,—у Уитмэна многородящий мозг. И что ни родит это тело, и что ни родит этот мозг,—все он пихает сюда, в свою могучую, дикую книгу. В результате—хаос впечатлений, мыслей и чувствований, смешанных в одно месиво, без всяких созвучий, что, пожалуй, не так и плохо; без всякого размера, что значительно хуже; порою без всякого смысла, что уж и совсем нехорошо. Нет никаких принципов просодии для чтения его стихов, а когда и случится напасть, наконец, на некоторый едва уловимый ритм—вот уж лежит на дороге какой-то чурбан и сбивает нас с рельсов... Даже пылкий почитатель Уитмэна 1) должен был признать, что тот—формалист демократизма... и что истинная поэзия никогда не была в таком тесном союзе с неприкрытой доктриной, никогда еще сухой догматик так тесно не уживался с возвышенным пророком. Одно дело воспевать всякий труд и всякий промысел, а другое—наворотить в одну кучу названия всевозможных ремесл и ремесленных принадлежностей; воспевать все страны и земли отнюдь не значит забрызгивать страницу именами различных частей света и в таком виде оставлять их там.
"Если Шекспир, Китс и Гете—поэты, Уитмэн—не поэт. Он в этом отношении Athanasius contra mundum. И, как мы ни боимся прослыть пресными моралистами, мы не можем одобрить в Уитмэне его дерзкое отрицание того, что сделала цивилизация, чтобы поднять человека над дикарем или над шимпанзе. Ни один из выдающихся писателей не был в такой мере лишен самомалейшего чувства юмора, как Уитмэн, и вследствие этого ни один даже из посредственных не доходил до таких абсурдов, как он".
* * *
Оригинальнейший американский писатель, англо-грек Лафкадио Герн, впоследствии об'японившийся, принявший японскую веру и женившийся на японке, был в юности нью-йоркским
Здесь подразумевается Роберт-Луи Стивенсон. med.00152.059.jpg
med.00152.059.jpg
журналистом. В письме к одному другу Уота Уитмэна он отзывается о поэте так:
"Я всегда по секрету чтил Уота Уитмэна и порывался не раз излить свои восторги пред публикой. Но в журналистике это не так-то легко. Попробуй, похвали Уота Уитмэна, если издатель ежеминутно твердит: "Нашу газету читают в порядочных семьях". А будешь ему возражать, он скажет, что ты порнограф, любитель клубнички и проч.
"Конечно, я не ставил бы Уитмэна на такой высокий пьедестал, на какой его ставите вы, я не стал бы называть его гением, ибо гению, по-моему, мало одного умения творить: нужно, чтобы сотворенное было красиво! Материал бывает и хороший, да самое изделие—дрянь. К чему мне руда или дикие драгоценные камни, мне нужно чистое золото в дивных причудливых формах, мне нужны лепестковые грани бриллиантов! А золото Уитмэна еще смешано с глиной, с песком, его изумруды и алмазы еще нужно отдать ювелиру. Разве был бы Гомер—Гомером, если бы океанские волны его могучих стихов не следовали одна за другой так размерно, ритмически-правильно? И разве все Титаны античной поэзии не шлифовали своих слов, своих стихов по строжайшим законам искусства? Да, голос Уитмэна—голос Титана, но этот Титан под вулканом, его крик заглушен; потому-то он вопит, а не поет.
"Красота-то есть у него, да ее нужно искать. Сама она не сверкнет на тебя, точно молния, с первой же попавшейся страницы. Прочти его книгу внимательно, вдумчиво с начала и до конца, и только тогда ты постигнешь ее красоту. В ней античный какой-то пантеизм, но только выше и шире: что-то звездное и даже надзвездное; хотя мне, признаться, в нем любо наиболее земное, земляное. Один рецензент (о, забавник!) писал: "Мистеру Уитмэну так же доступны красоты природы, как они доступны животному". Ах, именно эта животность для меня и драгоценна в нем, не звериная животность, а человеческая, та, которую нам раскрывают древние эллинские поэты: несказанная радость бытия, опьяненность своим здоровьем, невыразимое наслаждение дышать горным ветром, смотреть в голубое небо, прыгать в чистую, глубокую воду и сонно плыть по течению,—пусть несет тебя, куда хочет!.. Он грубый, веселый, бесстрашный, простой. Пусть он не знает законов мелодии, но голос его—голос Пана. В этом буй-
 med.00152.060.jpg
med.00152.060.jpg
ном магнетизме его личности, его творений, в его широких и радостных песнях, в его ощущении вселенской жизни чувствуешь лесного античного бога, фавна или сатира,—не карикатурного сатира наших нынешних дешевых классиков, но древнего, священного, причастного к культу Диониса, и так же, как Дионис, обладающего даром целения, спасания, пророчества—наравне с оргийным сладострастием, которое было в ведении этого двуполого бога.
"Здесь я вижу великую красоту Уота Уитмэна, великую силу, великую вселенскую правду, возвещенную в мистических глаголах, но самый певец, тем не менее, мне представляется варваром. Вы его называете бардом; еще бы! его песни как импровизации какого-то дикого скальда или лесного друида. Бард не бывает творцом, он только предтеча, только глас вопиющего в пустыне: уготовайте путь для великого певца, который идет за мною,—и вы, защищая, прославляя, венчая его творения, служите литературе будущего".
* * *
Книга Уота Уитмэна переведена частями или целиком на французский язык Габриелем Саразеном, Вилье Грифеном, Леоном Базальжетом; на немецкий язык—Карлом Кнорцом, Фрейлигратом, Т. В. Рольстоном (который известен также как переводчик писателей русских); на голландский—Морицем Вагенвортом; на польский—М. Манчевским; на итальянский—Луиджи Гамберале; на датский—Рудольфом Шмитом; на русский—К. Д. Бальмонтом.
 med.00152.061.jpg
med.00152.061.jpg
Стихи Уота Уитмэна.
Из книги "Листья Травы".
Вы, преступники, приведенные в суд.
Вы, преступники, приведенные в суд, Вы, острожники, в тюрьме за решеткой, Вы, убийцы в цепях и железных ручных кандалах, Кто же я, что я не за решеткой? Почему не судят меня? Я такой же окаянный и дьявольский, Отчего же руки мои не в оковах, ноги мои не в цепях? Вы, проститутки, пестро-наряженные, по тротуарам гуляющие, Или бесстыдствующие в кельях своих, Кто же я, что назову вас бесстыднее меня самого? Я виновен, я сам сознаюсь! (Не славословьте меня, почитатели, не пойте мне льстивых похвал, Похвалы меня раз'яряют до судорог: Я вижу, чего вы не видите, я знаю, чего вы не знаете). Внутри, в этом острове костном, я загрязненный, задохшийся. Под этим притворно-беспристрастным лицом клокочут адские волны. Я похотливый, порочный, Я сопутник злодеев, я к ним сопричислен, Я сам в этом сонме проституток и каторжников, Отныне не буду отрекаться от них, ибо как отрекусь от себя? 1) Эти стихи кажутся мне ярким выражением известной формулы Достоевского: "Воистину всякий пред всеми за всех и за все виноват". Спенсер высказал эту же мысль такими словами: "Никто не может называться свободным, пока не свободны все. Никто не может быть вполне беспорочным-пока есть хоть один порочный. Никто не может быть полным счастливцем, пока несчастливы все". К.Ч. med.00152.062.jpg
med.00152.062.jpg
Тебе.
Первый встречный, если ты, проходя, вдруг захочешь со мноюзавести разговор, почему бы тебе не начать разговора со
мною? Почему бы и мне не начать разговора с тобой?
Изумление ребенка.
Мальчишкою малым, бывало, замолкну и в изумлении сушаю, Как в воскресных речах у священника Бог выходит всегдасупостатом, Противоборцем какой-нибудь твари.
Тому, кто скоро умрет.
Я удаляю окружающих тебя, ибо я принес тебе весть: Ты скоро умрешь. Пусть другие говорят, что хотят, я не умеюлукавить, Моя правда точна и безжалостна, но я люблю тебя; тебе
спасения нет. Нежно я кладу тебе на плечо мою правую руку, Я не говорю ничего, я молча приникаю к тебе головою, Я сижу с тобою рядом, спокойный и преданный, Я не сиделка, не отец, не сосед, но я больше для тебя, чем они, Я отрешаю тебя от всего, что в тебе есть тленного и ложного,
оставляю лишь вечно-духовное. Ты сам никогда не умрешь, Труп, который останется после тебя, это не ты, а навоз. Нечаянно засияло солнце, где и не ждали его, Тебя охватывают сильные мысли, и, доверчивый, ты улыбаешься, Ты позабыл, что ты болен, и я позабыл, что ты болен, Ты не замечаешь лекарств, тебя не волнуют рыдания, ты
знаешь, что я—близ тебя, Я увожу от тебя сокрушающихся, нéчего им рыдать над тобою, Я ведь не рыдаю над тобою, я поздравляю тебя.
Городская Мертвецкая.
У городской мертвецкой, у входа, Праздно бродя, пробираясь подальше от шума, med.00152.063.jpg
Я, любопытствуя, замедлил шаги;
Вижу: отверженный труп, проститутка,
Простерлась на мокром кирпичном полу никому не нужна.
О, святыня, о, женщина! Женское тело! Вижу тело, гляжу на
med.00152.063.jpg
Я, любопытствуя, замедлил шаги;
Вижу: отверженный труп, проститутка,
Простерлась на мокром кирпичном полу никому не нужна.
О, святыня, о, женщина! Женское тело! Вижу тело, гляжу на него на одно, ничего другого не вижу, Оцепенелая тишина не смущает меня, ни вода, что каплет из
крана, Ни трупный смрад, — О, этот дом, дивный дом, изящный, прекрасный дом— Развалившийся, Этот бессмертный дом, бòльший, чем все наши здания, Чем наш Капитолий, с куполом белым, с гордой фигурой там
наверху 1) , чем старые храмы с колокольнями, воздетыми
кверху, — Этот прекрасный и страшный развалина-дом, Обитель души, сам—душа, Дом, избегаемый всеми, Прими же дыхание губ задрожавших моих, И эту слезу одинокую, Как поминки от меня уходящего, Ты, сокрушенный, разрушенный дом, дом греха и безумия, Ты, мертвецкая страсти, Дом жизни, недавно смеющийся, шумный, Но и тогда уже мертвый, Звеневший и дивно украшенный дом, Но мертвый, но мертвый, мертвый.
Любовные игры орлов.
Иду над рекою по дороге (это моя предобеденная прогулка), Вдруг задавленный крик наверху, Любовная ласка орлов, Слияние стремительных тел в высоте, Сцепленные сжатые когти, Кружение, безумие, бешенство, вихрь живого вверху колеса, Капитолий—здание въ Вашингтоне, где происходят заседания конгресса и верховного суда. На куполе у него статуя свободы. med.00152.064.jpg
Бьющих четыре крыла, два клюва,
Вертящейся массы комок,
Кувыркание, бросание, увертки, прямое падение вниз,
Над рекою повисли, двое—одно, в оцепененьи истомы,
В воздухе томно недвижны,
И вот расстаются, и когти ослабли, и в небо вздымаются вкось
med.00152.064.jpg
Бьющих четыре крыла, два клюва,
Вертящейся массы комок,
Кувыркание, бросание, увертки, прямое падение вниз,
Над рекою повисли, двое—одно, в оцепененьи истомы,
В воздухе томно недвижны,
И вот расстаются, и когти ослабли, и в небо вздымаются вкось на медленных мощных крылах, Он своим и она своим разделенным путем.
Песня о большой дороге.
1.
Пешком налегке выхожу на большую дорогу, Здоровый, свободный, —весь мир предо мною впереди! Эта серая большая тропа поведет меня, куда я захочу. Мне счастья не надо, я сам—свое счастье, Ни о чем не хнычу, ничего не хочу, Жалобы, вопросы и книги остались дома. Сильный и радостный, я иду по дороге вперед. Земля, разве этого мало? Мне не нужно, чтобы звезды спустились ниже, Они и там хороши, где сейчас. Большая дорога никого не отвергнет,— Негр, преступник, неграмотный, больной,—всем у нее приют. Роды. Кто-то бежит за доктором. Нищая ковыляет. Шатаетсяпьяный. Рабочие гурьбою идут и смеются. Мебель на дачу везут. Расфуфыренный франт. Погребальные дроги. Влюбленные, убежав-
шие из дому. Все проходят, и я прохожу, и все проходит, и никто никому
не помеха. Ни одного нелюбимого, ни одного обойденного!
2.
Я думаю, что геройские подвиги все рождались на вольном ветру, И все вольные песни—на воздухе. med.00152.065.jpg
Я думаю, что я мог бы сейчас встать и творить чудеса,
Я думаю, что кого я ни встречу сейчас, тот мне с первого
med.00152.065.jpg
Я думаю, что я мог бы сейчас встать и творить чудеса,
Я думаю, что кого я ни встречу сейчас, тот мне с первого взгляда полюбится И полюбит меня, Я думаю, что кого ни увижу сейчас, тот счастлив.
3.
Большими глотками я глотаю просторы и дали! Запад и восток—они мои, север и юг—они мои! Я больше, чем я думал,—я лучше, чем я думал, Я и не знал, до чего я хорош, Я развею себя между всеми, кого ни встречу, Я подарю каждому новую радость и новую силу, И кто отвергнет меня, не опечалит меня, А кто примет меня, будет благословен и блажен.4.
Если бы тысяча прекрасных мужей предстала сейчас предо мною,это не удивило бы меня, Если бы тысяча красивейших жен явилась сейчас предо мною,
это не изумило бы меня. Теперь я постиг, как создать самых лучших людей: Пусть вырастают на вольном ветру, спят и едят с землею. Здесь испытание мудрости, Здесь я проверю сейчас все религии и философии, Может быть, они хороши в духоте академий, но никуда не годятся
под широкими тучами, пред зелеными далями у бегущих
ручьев. Питательно только зерно, только ядро всех вещей, Кто же совлечет с них шелуху, кто же для себя и для меня
счистит с них скорлупу?
5.
Почему многие, приближаясь ко мне, зажигают в крови моейсолнце? Почему, когда они покидают меня, флаги моей радости никнут?
 med.00152.066.jpg
Почему под иными деревьями меня опьяняют всегда широкие
med.00152.066.jpg
Почему под иными деревьями меня опьяняют всегда широкие и мелодичные мысли? Я думаю, и лето и зиму они зреют на этих деревьях
и падают на меня, как плоды. Откуда благоволение ко мне проходящих мужчин и женщин?
6.
Ну же, кто бы ты ни был, выходи, и пойдем вдвоем; Со мною ты не утомишься в дороге. Сначала дорога неласкова, сначала молчалива и нерадушназемля, непостижна и неприветна природа. Но иди, не унывая, иди вперед, и ты узришь божеское,
сокровенное, Не сказать никакими словами, сколь великую ты узришь красоту. Дальше! Вперед! Не мешкая! Пусть эта гавань защищает от бури, Пусть эти люди гостеприимны, а это жилище уютно, Нам нельзя здесь бросить якорь, дальше, вперед!
7.
Мы помчимся по безумному, по бездорожному морю! С нами земля и стихия, С нами здоровье, задор, любопытство, гордость, восторг! Но не приходите ко мне, кто уже расточил свое лучшее, Сифилитиков и пьяниц мне не надо!8.
Идем, но предупреждаю тебя, что я потребую многого, Ты не должен собирать и громоздить то, что называетсябогатством, Все, что наживешь и накопишь, разбрасывай, куда ни пойдешь; Войдя в какой-нибудь город, не оставайся в нем дольше, чем
нужно, и, верный зовущему голосу, поскорее уходи прочь. Те, кого ты оставишь там, будут издеваться над тобою, язвить
тебя злыми насмешками, Любящие руки попытаются тебя удержать, но да будут твои
поцелуи прощальными, И да не станут эти руки оковами.
 med.00152.067.jpg
med.00152.067.jpg
9.
Идем! К бесконечному и безначальному!.. Мы возьмем с собою в дорогу все здания и улицы, куда бы мыни пошли. Что же такое вселенная, как не дорога,—множество дорог для
блуждающих душ,— Они шествуют вперед и вперед, Любящие, больные, отверженные, Величавые, могучие, безумные, слабые, гордые, отчаянные. Я не знаю, куда они идут, но знаю, что к великому, лучшему.
10.
Выходите же, мужчины и женщины! Нечего корпеть в своих домах, хотя бы вы их сами построили, Прочь из заточения и мрака! Выходите прочь из тайника! Никакие мольбы не помогут, я знаю каждое укромное место, Вы не заслонитесь от меня ни одеждой, ни танцами, ни обедом,ни смехом. Я вижу сквозь все покровы ваши скрытые скорби и ужасы, Вы не скажете их ни жене, ни подруге, ни мужу, Об этом страшном своем двойнике, который бродит,
бессловесный, по улицам, И в гостиных прикрывается личиной учтивости, И всюду в трамваях, в каютах, изящно одетый, смеется, А в груди у него смерть, а в черепе у него преисподняя— Там, под белой манишкой, под лентами и бутоньерками, Как он говорлив, говорит обо всем, но ни звука не говорит
о себе.
11.
Идем! Торопись! Пусть бумага останется у тебе на столенеисписанная И на полке—непрочитанная книга, Пусть остановятся на заводах станки, и ты не заработаешь
денег, Пусть училище останется пустое! Не слушай призывов учителя! Камерадо, я даю тебе руку, я даю тебе свою любовь, я даю
тебе всю мою душу, ничего не проповедуя, не требуя, Пойдешь ли ты со мною в дорогу, неразлучный до могилы
сопутник?
 med.00152.068.jpg
med.00152.068.jpg
Деревенская картина.
За широкими воротами мирной риги деревенской Озаренная поляна со скотом и лошадьми, И туман, и ширь, и дальний уходящий горизонт.Тебе.
Кто бы ты ни был, я боюсь, что ты идешь по пути сновидений, И в чем ты так крепко уверен,—боюсь, то уйдет у тебяиз-под ног и под руками растает, И обличье твое, и твой дом, и слова, и дела, и тревоги,
и твое веселье и безумство,— Все ниспадает с тебя, и твое настоящее тело, и твоя душа
настоящая, только они предо мною, Ты предо мною стоишь в стороне от работы своей и заботы,
от купли-продажи, от фермы твоей и от лавки, от того,
что ты ешь, что ты пьешь, как ты скорбишь, умираешь. Кто бы ты ни был, я руку тебе на плечо возлагаю, о, будь
моею поэмой! Я близко, так близко губами над твоим ухом шепчу: Много любил я мужчин и женщин, но никого—как тебя. Долго я мешкал вдали от тебя, долго я был как немой, Мне бы давно прибежать к тебе, Мне бы твердить о тебе без конца, мне бы тебя одного
воспевать,
Кто бы ты ни был. О, я покину всех, я пойду и гимн создам о тебе, Никто ведь не понял тебя, я один понимаю тебя, Никто справедлив к тебе не был, ты сам справедлив к себе
не был, Все находили из'яны в тебе, один только я не вижу никаких
из'янов в тебе, (Один только я не ставлю над тобою ни владыки, ни Бога: Над тобою лишь тот, кто таится в тебе же самом). Иконописцы писали кишащие толпы людей, и меж них
Одного посредине, И голова Одного посредине была в золотом ореоле,—
 med.00152.069.jpg
Я же икону пишу, и на ней мириады голов, и все до одной—
med.00152.069.jpg
Я же икону пишу, и на ней мириады голов, и все до одной— в золотых ореолах, От руки моей льется сияние, отъ мужских и от женских
голов вечно исходит оно. О, я мог бы пропеть про тебя такие величавые гимны,
восславить славу твою. Кто бы ты ни был. Как ты велик, ты не знаешь и сам, проспал ты себя самого, Твои веки как будто опущены были во всю твою жизнь, И все, что ты делал, к тебе обернулось, словно бы кто
над тобой посмеялся. (Богатства твои, и молитвы, и знания, если не в чью-то
насмешку они обернулись, то во что обернулись они?) Но посмешище это—не ты. Там, под спудом, внизу, затаился ты настоящий, И я вижу тебя, где никто не увидит тебя. Ни молчание твое, ни конторка, ни ночь, ни наглый твой
вид, ни рутина твоей жизни не скроют тебя от меня; Лицо твое бритое, желтое, и зрачки беспокойные пусть
с толку сбивают других, но меня не собьют. Твой пошлый наряд, безобразную позу, и пьянство, и похоть,
и раннюю смерть,—все я отброшу прочь! Ни у кого нет таких дарований, которых бы не было и у тебя, Ни такой красоты, ни такой доброты, какие теперь у тебя, Ни дерзания такого, ни терпения такого, какие есть у тебя, И какие других наслаждения ждут, такие же ждут и тебя, И я никому ничего не дам, если столько же не дам и тебе, И никого, даже Бога, я песней моей не прославлю, если я
не прославлю тебя. Кто бы ты ни был! Иди напролом и требуй. Эта пышность Востока и Запада—безделица рядом с тобою, Эти равнины безмерные и эти реки безбрежные—безмерен,
безбрежен и ты, как они. Эти бури, вулканы, стихии, иллюзия смерти,—ты тот, кто
над ними владыка, Ты по праву владыка над скорбью, над страстью, над смертью! С ног твоих путы спадают, и ты видишь: все превосходно!
 med.00152.070.jpg
Молодой или старый, мужчина или женщина, грубый,
med.00152.070.jpg
Молодой или старый, мужчина или женщина, грубый, подлый, отверженный всеми, Кто бы ты ни был, Через печали, утраты, через обиды и скуку проложило дорогу
твое настоящее я.
Из "Песни о самом себе".
1.
Я славлю себя, я воспеваю себя, И что я принимаю, то примете и вы, Ибо все, что во мне, то и в вас: Язык мой и каждый атом моей крови создан из этого воздуха,из этой земли под ногами. Рожденный здесь от родителей, рожденных здесь от родителей,
тоже рожденных здесь, Я тридцати семи лет, в полном здравии, эту песню мою начинаю, Надеясь не кончить до смерти. Побудь этот день и эту ночь со мною, и ты сам станешь
источником всех на свете поэм, Все блага земли и солнца станут твоими (миллионы солнц
в запасе у нас!) Ты перестанешь смотреть глазами давно умерших или жить
привидениями книг.
6.
Ребенок спросил, что такое трава? и принес ее полною горстью. Как я отвечу ребенку? Я ведь знаю не больше его, что такоетрава. Может-быть, это флаг моих чувств, из зеленой материи соткан-
ный,—символ надежды. Или это платочек от Бога, надушенный, Брошенный нарочно на землю, людям на память, в подарок, Там где-нибудь есть и метка, имя владельца, чтобы, увидя, мы
знали наверное—чей. А может быть, это пышные кудри могил. Вейтесь же, травы, я буду к вам нежен:
 med.00152.071.jpg
Может быть, вы возросли прямо из груди каких-нибудь юношей,
med.00152.071.jpg
Может быть, вы возросли прямо из груди каких-нибудь юношей, и, может быть, если бы я их узнал, и полюбил бы их; Может-быть, вы из старцев растете, или из младенцев, только
что вынутых из материнского чрева; Может быть, вы—материнское чрево. Но эта трава так темна, она не могла взрасти из седых стару-
шечьих голов, она темнее, чем серые бороды старцев, также
она не взросла из бледно-румяных ртов. Я хотел бы передать ее речь о молодых мужчинах и о младен-
цах, едва только взятых от чресел. Что, по вашему, сталось со стариками и молодыми? И во что об-
ратились теперь дети и женщины там под землей? Они живы, и им хорошо, и малейший росток указует, что смерти
на деле нет, а если она и есть, она ведет за собою жизнь,
она не подстерегает жизнь, чтобы ее погубить; она гибнет
сама, лишь только появится жизнь. Умереть это вовсе не то, что ты думал, но лучше.
8.
Младенец спит в колыбели, Я поднимаю кисею, долго смотрю на него и мух отгоняю ти-хонько. Юноша с закрасневшейся девушкой юркнул в кусты на холме, Я с вершины внимательно наблюдаю за ними. Самоубийца простерся в спальне на обагренном полу,— Я изучаю, как волосы обрызганы кровью и куда упал пистолет. Грохот мостовой, шаркание подошв, разговоры прохожих, Омнибус тяжеловесный и кучер с пригласительно-поднятым паль-
цем, звякание копыт по граниту. Сани, бубенчики, шутливые крики, снежки, Ура народным любимцам, ярость разгневанной черни, Шуршание штор на закрытых носилках,—больного несут в ла-
зарет, Схватка врагов, внезапная ругань, удары, чье-то падение, Толпа взбудоражена, полицейский спешит со своею звездою, в
середину толпы пролагает дорогу, Бесстрастные камни, которые получают и возвращают назад та-
кое огромное множество эхо.
 med.00152.072.jpg
Стоны пресыщенных и умирающих с голоду, упавших от солнеч-
med.00152.072.jpg
Стоны пресыщенных и умирающих с голоду, упавших от солнеч- ного удара или в истерике. Вопли женщин, застигнутых родами, спешащих скорее домой,
чтобы родить ребенка, Какие слова здесь живут, и умирают здесь, и вечно витают
здесь, какие визги, укрощенные приличиями, Аресты преступников, предложения продажной любви, принятие
ее и отверженье (презрительным выгибом губ),— Все это я замечаю, или отголоски, отражения всего этого, я при-
хожу и опять ухожу.
10.
В горы далеко, в пустыню я забрел один и стреляю, Бегаю, сам удивленный проворством своим и весельем; К вечеру выбрал себе удобное место для ночлега, И развожу костер, и готовлю свеже-убитую дичь, А потом упал и заснул на собранных листьях, рядом со мноюмой пес и винтовка. Клиппер-янки несется на раздутых марселях, мечег искры и
брызги, Я вонзился глазами в берег, уперся на руль или с палубы лихо
кричу. Лодочники и собиратели раковин вставали чуть свет и поджи-
дали меня, Я запихивал штаны в голенища, шел вместе с ними, и время
проходило отлично,— Побывали бы вы вместе с нами у котла, где варилась уха! На дальнем западе я видел охотничью свадьбу, невеста была
краснокожая, И отец ее вместе со своими товарищами сидел невдали, скре-
стив ноги, безмолвно куря, и были у них на ногах мока-
сины и плотные широкие одеяла были у них на плечах. По берегу, по песку бродил жених-охотник, шкурами весь уве-
шанный, пышнобородый, шея у него была закрыта кудрями,
он за руку водил свою невесту; У нее же ресницы были длинные и голова обнаженная, и жест-
кие волосы прямо свисали на сладострастное тело и дости-
гали до ног.
 med.00152.073.jpg
Беглый раб во дворе у меня затаился,
Я услышал, что он шевелится, потому что заскрипели дрова,
В полуоткрытую кухонную дверь я увидел его истомленного,
И вышел к нему, он сидел на полене, и я ввел его в дом
med.00152.073.jpg
Беглый раб во дворе у меня затаился,
Я услышал, что он шевелится, потому что заскрипели дрова,
В полуоткрытую кухонную дверь я увидел его истомленного,
И вышел к нему, он сидел на полене, и я ввел его в дом и успокоил его, И воды натаскал, и наполнил лохань, пусть он вымоет вспотев-
шее тело, свои из'язвленные ноги, И дал ему комнату рядом с моею и дал ему грубого чистого
белья, И помню я хорошо, как бегали у него зрачки и как он был
неуклюж. И помню, как я ему наклеивал пластыри на исцарапанную шею
и ногу; Он жил со мною неделю, пока не отдохнул и не ушел на север. Я сажал его за стол со мною рядом, а ружье мое было в углу.
11.
Двадцать восемь молодых мужчин купаются на берегу. Двадцать восемь молодых мужчин, и как они дружны. Двадцать восемь годов женской жизни, и как они одиноки. Милый домик у нее на прибрежной горе, Красивая, пышно-одетая за ставней окна она прячется. Кто из молодых мужчин ей по-сердцу больше всего? Самый нескладный из них для нее красивее всех. Куда же, куда вы, лэди? ведь я вас отлично вижу, Вы плещетесь с нами в воде, хоть недвижно у окна притаились. Двадцать девятой купальщицей с пляской и смехом она напра-вляется к берегу, Те не видят ее, но она их видит и любит. Бороды у молодых мужчин блестят от воды, вода стекает с дол-
гих волос, ручейками бежит по телам; И так же бежит по телам чья-то рука-невидимка И дрожит, от висков пробегая к ребрам. Молодые мужчины плывут на спине, и белеют их животы про-
тив солнца, и ни один не спросит, кто так крепко прижи-
мается к ним; И ни один не знает, кто это так, задыхаясь, склонился вперед,
изогнулся, И в кого они брызгают брызгами.
 med.00152.074.jpg
med.00152.074.jpg
13.
Я не зову черепаху негодной только за то, что она черепаха; Сойка в лесах никогда не играла гаммы, но по-мне поет хорошо, И когда на меня глядит гнедая кобыла, мне становится стыдносвоей глупости.
14.
Что зауряднее, дешевле, что доступнее и ближе всего, это—Я; Я трачу себя всегда, ради больших барышей, Я подарю себя первому, кто меня только захочет взять...15.
Чистое контральто поет в церковном хоре, Сумасшедшего везут, наконец, в сумасшедший дом (не спать ужему никогда, как он спал в материнской спальне); Наборщик с седой головой, иссохший, наклонился над кассой, во
рту он шевелит табак, а глаза уставил в рукопись. Крепко привязано тело калеки к столу у хирурга, то, что отрезано,
шлепает страшно в ведро; Машинист закачал рукава, полицейский обходит участок, при-
вратник глядит, кто идет; Парень едет в фургоне (я влюблен в него, хоть и не знаю его). Рог трубит, призывает в залу, кавалеры бегут к своим дамам,
танцоры отпускают друг другу поклоны, Мальчик не спит у себя на чердаке под кедровою крышей и
слушает музыкальный дождь; Пароходик пристал и недвижен, матросы бросили на берег доску
чтобы пассажирам сойти; Младшая сестра для старшей держит клубок,—из-за узлов у нее
всякий раз остановка; Карандаш репортера быстро порхает по записной его книжке; Маляр пишет вывеску лазурью и золотом; Проститутка влачит свою шаль по земле, шляпка висит у нее на
пьяной прыщавой шее, толпа хохочет над ее неприличною
бранью, мужчины глумятся, друг другу подмигивая (жалкая;
я не смеюсь над твоей неприличною бранью и не глумлюсь
над тобой);
 med.00152.075.jpg
Штукатуры дом штукатурят, кровельщик кроет крышу, камен-
med.00152.075.jpg
Штукатуры дом штукатурят, кровельщик кроет крышу, камен- щики кричат, чтобы им дали известки; По площади, дружно обнявшись, чинно шествуют три величавых
матроны; Осень за летом идет, пахарь пашет, косит косарь, и озимь сып-
лется на-земь; Патриархи сидят за столом с сынами и сынами сынов и сынов-
них сынов сынами; В палатках отдыхают охотники после охоты, Город спит и деревня спит, Живые спят, сколько надо, и мертвые спят, сколько надо, Старый муж спит со своею женою, и молодой муж спит со своею
женою, И все они льются в меня, и я выливаюсь в них, И все они—я, Из них изо всех и из каждого я тку эту песнь о себе.
16.
Я ученик невежд, я учитель мудрейших; Я только-что начал учение, но я учусь мириады веков; Я краснокожий, чернокожий, белый, каждая каста—моя, и каждаявера—моя, Я фермер, джентельмен, механик, квакер, художник, матрос, Острожник, мечтатель, буян, адвокат, священник, врач... ....................................................... (Моль и рыбья икра—на своем месте; И яркие солнца, которые вижу, и темные солнца, которых не
вижу,—на своем месте)...
17.
Это, поистине, мысли всех людей во все времена, во всех стра-нах, а не мои только мысли; Если они не твои, а только мои, они ничто. Если они не загадка и не разгадка загадки, они ничто, Если они не вблизи от тебя и не вдали от тебя, они ничто. Это трава, что повсюду растет, где только земля и вода, Это воздух для всех одинаковый, омывающий шар земной.
 med.00152.076.jpg
med.00152.076.jpg
18.
С шумной музыкой иду я, с барабанами и трубами, Не одним лишь победителям я играю мои марши, а и тем, ктопобежден. Ты слыхал, что хорошо покорить и одолеть? Говорю тебе, что пасть это так же хорошо; это все равно—раз-
бить или быть разбитым! Я стучу и барабаню, прославляю мертвецов! О, трубите, мои трубы, веселее и победнее! Слава тем, кто сдался! Слава тем, у кого боевые суда потонули, тому, кто и сам потонул, И всем полководцам, проигравшим сражение, и всем побежден-
ным героям, И несметным бесславным героям, как и прославленным,—слава!
19.
Это стол, накрытый для всех, для тех, кто по-настоящему голоден, Для злых и для добрых равно; Я никого не оставил за дверью, я всех пригласил: Вор, паразит и содержанка—это для всех призыв; Раб с отвислой губой приглашен и сифилитик приглашен; Не будет различья меж ними и всеми другими. Это—пожатие робкой руки, это—развевание и запах волос. Это—прикосновение моих губ к твоим, это—страстный призываю-щий шопот... По-твоему, я—притворщик, и у меня затаенные цели; Они есть у меня, если они есть у апрельских дождей и у слюды
на откосе скалы. Или ты думаешь, что я хотел бы тебя удивить? Удивляет ли свет дневной или трель горихвостки в лесу споза-
ранку? Я пред тобою теперь откровенен; этого я никому не сказал бы,—
только тебе одному.
21.
Ближе прижмись ко мне, ночь, у тебя обнаженные груди,крепче прижмись ко мне, магнетически-пьянящая ночь!
 med.00152.077.jpg
Ночь, у тебя южные ветры, ночь, у тебя редкие, крупные звезды,
Вся ты колышешься, ночь, безумная, летняя, голая ночь!
Улыбнись же и ты, похотливая, с холодным дыханьем земля.
Земля, у тебя так мокры сонные ветви деревьев!
Земля в синеватом стеклянном сиянии полной луны!
Земля, твом тени и светы пестрят бегущую реку!
Земля, твои серые тучи посветлели ради меня,
Ты далеко разметалась, замля, вся в ароматах зацветших яблонь!
Улыбнись, потому что пришел твой любовник.
med.00152.077.jpg
Ночь, у тебя южные ветры, ночь, у тебя редкие, крупные звезды,
Вся ты колышешься, ночь, безумная, летняя, голая ночь!
Улыбнись же и ты, похотливая, с холодным дыханьем земля.
Земля, у тебя так мокры сонные ветви деревьев!
Земля в синеватом стеклянном сиянии полной луны!
Земля, твом тени и светы пестрят бегущую реку!
Земля, твои серые тучи посветлели ради меня,
Ты далеко разметалась, замля, вся в ароматах зацветших яблонь!
Улыбнись, потому что пришел твой любовник.
22.
Море! я и тебе отдаюсь, я знаю, чего тебе хочется! С берега я вижу твои призывно-манящие пальцы, Вижу, что ты без меня ни за что не отхлынешь назад, Идем же вдвоем, я разделся, только уведи меня дальше, чтобыне подсмотрела земля, Мягко стели мне постелю, укачай меня волнистой дремотой, облей
любовною влагой, я ведь могу отплатить тебе. Море, как конвульсивно и как широко ты дышишь! Море, ты—бытие, в тебе соль бытия, но ты вечно-разверстая
наша могила. Ты завываешь бурями, капризное, изящное море. Море, я похож на тебя, я тоже одно и все, во мне и прилив,
и отлив, я певец злобы и мира, Я воспеваю друзей и тех, что спят друг у друга в об'ятьях. Что это там за толки о добре и зле? Зло меня движет вперед, и противленье злу меня движет вперед,
я могу оставаться спокоен, Поступь моя не такая, как у того, кто находит из'яны или
отвергает хоть что-нибудь в мире. Корни всего, что растет, я готов поливать. Или очуметь вы боитесь от этих неустанных родов? Или, по-вашему, плохи законы вселенной, и их надобно сдать в
починку? Я же думаю: здесь все в равновесии... Эта минута ко мне добралась после миллиарда других, нет лучше
ее ничего!
 med.00152.078.jpg
И это не чудо, что все среди нас было и есть прекрасно,
Гораздо чудеснее было бы чудо, если бы меж нами явился хоть
med.00152.078.jpg
И это не чудо, что все среди нас было и есть прекрасно,
Гораздо чудеснее было бы чудо, если бы меж нами явился хоть один злодей или неверный.
24.
Я Уот Уитмэн, я космос, я сын манхатанца 1), я буйный,дородный, чувственный, пьющий, ядущий, рождающий. Я не такой, чтобы ставить себя выше других мужчин или
женщин, или чтобы от них сторониться. Я бесчинный и чинный равно. Прочь же затворы дверей! И самые двери долой с косяков! Кто унижает другого, тот унижает меня! И всякое слово, и всякое
деянье под конец возвращается ко мне! Проходя, я говорю мой пароль: демократия, и клянусь, что
я не приму ничего, что досталось бы не всякому поровну. Через меня без конца голоса глухие проходят,— Голоса поколений несметных, голоса рабов и колодников, Голоса больных, и отчаявшихся, и воров, и уродов, и нитей,
связующих звезды, и женских чресел, и влаги мужской, Голоса дураков, калек, плоскодушных, презренных, пошлых, Во мне и воздушная мгла, и жучки, катящие навозные шарики, Сквозь меня голоса запретные, голоса вожделений и похотей (с
них я снимаю покров), И голоса разврата, мною просветленные, преображенные; Супружество у меня не в большем почете, чем смерть. Верую в плоть и в ее вожделения; Слушание, зрение, чувствование—вот чудеса, и чудо—каждый
отброс от меня; Я божество и внутри и снаружи, все становится свято, чего ни
коснусь, Запах пота у меня под мышками ароматнее всякой молитвы, И моя голова превыше всех библий, церквей и вер. Если и чтить одно больше другого, так пусть это будет мое тело! Ты, моя богатая кровь, пусть это будешь ты! Грудь, которая тянется к другим грудям, пусть это будешь ты! Манхатанец—житель острова Манхатана, на котором расположен Нью Йорк. Уитмэн называл любимый город старинным индейским именем.
 med.00152.079.jpg
Мозг, у которого так непостижны извивы, пусть это будешь ты!
Солнце такое щедрое, пусть это будешь ты!
Мускулистая ширь полей, ветки живого дуба; руки, что я пожи-
med.00152.079.jpg
Мозг, у которого так непостижны извивы, пусть это будешь ты!
Солнце такое щедрое, пусть это будешь ты!
Мускулистая ширь полей, ветки живого дуба; руки, что я пожи- мал; лица, что я целовал, всякий смертный, кого я только
коснулся, пусть это будете вы... О, я стал бредить собою, вокруг так много меня, и как это
сладостно!..
31.
Я верю, что былинка травы не меньше движения звезд, И что не хуже их муравей, и песчинка, и яйцо королька 1), И что древесная жаба—шедевр, выше которого нет, И что черника достойна быть на небе украшением гостиной, И что тончайшая жилка у меня на руке есть насмешка надвсеми машинами; И что корова, понуро жующая жвачку, превосходит всякую статую. И что мышь, это—чудо, которое может одно пошатнуть секстиль-
оны неверных. Во мне и гранит, и уголь, и с долгими волокнами мох, и плоды,
и зерна, и коренья, годные в пищу, Четвероногими весь я доверху набит, птицами весь я начинен, И хоть я не спроста отдалился от них, Но стоит мне захотеть, и я могу позвать их обратно. Пускай они таятся или убегают, Пускай огнедышащие горы в лицо мне пышат пожаром; Пускай мастодонт укрывается своими истлевшими костями; Пускай гиганты-чудовища в океане прячутся поглубже; Пускай птица-сарыч гнездится под самым небом; Пускай змея ускользает в лианы; Пускай пингвин, с клювом, похожим на бритву, уносится к
северу на Лабрадор. Я быстр, я всех настигаю, я взбираюсь на самую вершину—к
гнезду в расселине камня.
32.
Я думаю, я мог бы вернуться и жить среди животных,—такони спокойны и кротки. Одна из самых малых пташек в мире.
 med.00152.080.jpg
Я стою и смотрю на них долго и долго.
Они не стенают, не хнычут о своем положении в мире,
Они не плачут по бессонным ночам о своих прегрешениях,
Они не изводят меня, обсуждая свой долг перед Богом.
И никто из них не страдает манией стяжания вещей,
Никто никому не поклоняется, не чтит подобных себе, которые
med.00152.080.jpg
Я стою и смотрю на них долго и долго.
Они не стенают, не хнычут о своем положении в мире,
Они не плачут по бессонным ночам о своих прегрешениях,
Они не изводят меня, обсуждая свой долг перед Богом.
И никто из них не страдает манией стяжания вещей,
Никто никому не поклоняется, не чтит подобных себе, которые жили за тысячу лет; И нет между ними почтенных, и нет на целой земле горемык. Этим они указуют, что я им сродни, и я готов их принять как
родных: знамения есть у них, что они это—я. Хотел бы я знать, откуда у них эти знамения; Может-быть, я уронил их нечаянно, проходя по той же дороге
когда-то очень давно.
33.
Пространство и Время! Теперь-то я вижу, что я не ошибся, Когда я лениво шагал по траве, когда я одиноко лежал у себяна кровати, И когда я блуждал по прибрежью под бледнеющими звездами
утра. Ваши тяготы и цепи спадают с меня, Локтями я упираюсь в морские пучины, я обнимаю сиерры, Я ладонями покрываю сушу, Я смотрю пред собою вперед. У городских четырехугольных домов, в деревянных лачугах,
поселившись вместе с дровосеками; Копая лук в огороде, или пастернак, или морковь, Пересекая саванны, гоняясь в лесу за дичью; исследуя землю,
роя золото, Измеряя веревкой стволы где-нибудь на новых местах,
по колено в горячем песке, таща свою лодку бичевой, Где пантера над головой снует по сучьям, Где выдра глотает рыбу, Где, нежась на солнце, гремучая змея вытягивает вялое тело, Где бобр стучит по болоту хвостом, как веслом, Где пароход развевает за собой длинное знамя дыма, Где плавник акулы торчит из воды словно черная щепка,
 med.00152.081.jpg
Где мечется обугленный бриг по незнакомым волнам, и ракушки
med.00152.081.jpg
Где мечется обугленный бриг по незнакомым волнам, и ракушки уже растут на тенистой палубе, и в трюме гниют мертвецы. Где Ниагара, свергаясь, лежит, как вуаль, у меня на лице; На холостых попойках, с вольными шутками, с крепким словом,
со смехом и пьяными плясками; На сборе плодов, где за каждое спелое яблоко мне надлежит
поцелуй; Где скирды стоят перед ригой, где разостлано сено для сушки. Где корова ждет под навесом, а бык уж идет совершить свою
мужскую работу, и жеребец к кобыле, и за курицей
вслед петух, Где телки пасутся, где гуси хватают короткими хватками пищу. Где от закатного солнца тянутся, тянутся тени по всей
безграничной прерии. Где стадо буйволов покрывает собою землю на квадратные мили
вокруг. Где пташка колибри сверкает, где шея долговечного лебедя
изгибается и извивается, Где улья стоят в саду, как солдаты, на бурой скамейке,
полузаросшие буйной травою, Где огурцы на грядах с серебряными жилками листьев, Довольный родным и довольный чужим, довольный новым
и старым, Радуясь встрече с красивою женщиной и с некрасивою женщиной, Радуясь, что вот вижу квакершу, как она шляпку сняла и
говорит мелодично, Проводя все утро на улице у магазинных витрин, носом
прижимаясь к оконному стеклу; Блуждая по старым холмам Иудеи бок-о-бок с прекрасным и
нежным Богом; Носясь по просторам, носясь в небесах между звезд, Носясь между хвостатых комет, нося с собою ребенка, который
во чреве несет свою мать 1); Высшее освобождение от иллюзии времени: вслед за будущим наступает прошедшее.
Примеч. перев.
 med.00152.082.jpg
Бушуя, любя и радуясь, исчезая и вновь появляясь, день и
med.00152.082.jpg
Бушуя, любя и радуясь, исчезая и вновь появляясь, день и ночь я блуждаю такими тропами. Я посещаю сады планет и смотрю, хорошо ли растет; Я смотрю квинтильоны созревших и квинтильоны еще
недозрелых, Я гоню из постели мужа, я сам остаюсь с новобрачной и всю
ночь прижимаю ее к моим бедрам и к моим губам; Мой голос есть голос жены, ее крик у перил на лестнице: Труп моего мужа несут ко мне, с него каплет вода, он—
утопленник. Я понимаю широкие сердца героев, как шкипер увидел разбитое
судно, в нем людей, оно без руля, Смерть во всю бурю гналась за ним, как охотник,— И шкипер пустился за судном, не отставая ни на шаг, днем и
ночью верный ему. И мелом написал на борту: "Крепитесь, мы вас не покинем". Как он носился за ними, не покидал их три дня и три ночи. Как он спас, наконец, полумертвых, что за вид был у дряблых
женщин, в обвислых платьях, когда их увозили прочь
от разверстых перед ними могил, Что за вид у молчаливых младенцев, со стариковскими лицами,
и у небритых, обросших мужчин! Я это глотаю, мне это по вкусу, мне нравится это, я это
впитал в себя. Я человек, я страдал вместе с ними. Надменное спокойствие мучеников, Женщина, уличенная ведьма, горит на сухом костре, а дети
ее стоят и глядят на нее, Загнанный раб, изнемогший от бега, в поту, пал на плетень отдышаться, они, это—я, Я этот загнанный негр, это я от собак отбиваюсь ногами, Вся преисподняя следом за мною, Щелкают, щелкают выстрелы, я за плетень ухватился, Мои струпья сцарапаны, кровь каплет, сочится, Лошади там заупрямились, верховые их понукают, Уши мои, как две раны от этого крику, И вот меня бьют с размаху по голове кнутовищами. У раненых я не пытаю о ране, я сам становлюсь тогда
раненым.
 med.00152.083.jpg
Я не отвергаю вас, священники, никого и нигде во веки веков,
Величайшая вера—моя, и самая малая—тоже моя,
Я вмещаю древнюю религию и новую, и ту, что между древней
med.00152.083.jpg
Я не отвергаю вас, священники, никого и нигде во веки веков,
Величайшая вера—моя, и самая малая—тоже моя,
Я вмещаю древнюю религию и новую, и ту, что между древней и новой, Я верю, что снова приду на землю через пять тысяч лет, Я ожидаю ответа оракулов, я чту богов, я кланяюсь солнцу, Я делаю себе фетиша из первого камня или пня, Я помогаю ламе или брамину, когда тот поправляет перед ку-
миром светильники, В фаллическом шествии я пляшу на улице, я одержимый гимно-
софист, суровый, в дебрях лесов, Я из черепа пью дикий мед, как из чаши, чту Веды, держусь
Корана, я бью в барабан из змеиной кожи, Я принимаю Евангелие, я принимаю того, кто был распят, я
наверное знаю, что он был Бог; Я католик, всю мессу стою на коленах; я пуританин, пою псалмы
и сижу неподвижно на церковной скамье, Я из тех, что вращают колеса колес. Вы же, упавшие духом, одинокие и мрачные скептики, легко-
мысленные, унылые, злые безбожники, я знаю каждого из вас,
я знаю море сомнения, тоски, неверия, отчаяния, муки. Как плещутся камбалы, Как они бьются, корчатся, быстро, как молния, спазмами и
прибоями крови. Будьте спокойны, окровавленные маловерные камбалы, я ваш, я
с вами, так же, как и со всеми другими.
44.
Встаньте же, время приблизилось мне перед вами открыться. Все, что изведано, я отвергаю. Риньтесь, мужчины и женщины,вместе со мною в Неизвестное. Часы отмечают мгновения, где же часы для вечности? Мы уже давно истощили триллионы весен и зим, но в запасе у
нас есть еще триллионы и еще и еще триллионы. Те, кто прежде рождались, принесли нам столько богатства. И те, кто родятся потом, принесут нам новые богатства. Все вещи равны между собою: ни одна не больше и не меньше; То, что заняло свое место и время, таково же, как и все остальное.
 med.00152.084.jpg
Люди были жестоки к тебе, о мой брат, о моя сестра?
Я очень жалею тебя, но ко мне никто не был ни жесток, ни
med.00152.084.jpg
Люди были жестоки к тебе, о мой брат, о моя сестра?
Я очень жалею тебя, но ко мне никто не был ни жесток, ни завистлив. Все вокруг было нежно ко мне, мне не на что жаловаться (Поистине, на что же мне жаловаться?). Я—завершение всего, что уже свершено, я начало всего гря-
дущего. Я взошел на верхнюю ступень, На каждой ступени века и между ступенями тоже века. Пройдя все, не пропустив ни одной, я карабкаюсь выше и выше. Внизу, в глубине, я вижу большое Ничто, я знаю, что я был и
там. Невидимый, я долго там таился и спал в летаргическом тумане Долго готовилась вселенная, чтобы создать меня, Ласковы и преданны были те руки, которые направляли меня. Вихри миров, кружась, носили мою колыбель, они гребли и гребли
как лихие гребцы. Сами звезды уступали мне место; И покуда я не вышел из матери, поколения направляли мой путь, Мой зародыш в веках не ленился, и что его могло бы задержать? Для него сгустились в планету мировые туманы, Пласты наслоялись, чтобы дать ему твердую почву, И гиганты-растенья двавли ему себя в пищу, И чудище-ящер лелеял его в своей пасти и бережно нес его
дальше. Все мировые силы трудились надо мною от века, И вот я стою на этом месте со своею крепкой душой.
45.
Ночью я открываю окно и смотрю, как далеко разбрызганы внебе миры, И все, что я вижу, умножьте, сколько хотите, есть только граница
новых и новых вселенных, Дальше и дальше уходят они, расширяясь, вечно расширяясь. Нет ни на миг остановки, и не может быть остановки; Если бы я и вы, и все миры, сколько есть, и все, что на них
и под ними, снова в эту минуту свелись к бледной текучей
туманности, это была бы безделица при нашем долгом пути.
 med.00152.085.jpg
Мы вернулись бы снова сюда, где мы стоим сейчас, и отсюда
med.00152.085.jpg
Мы вернулись бы снова сюда, где мы стоим сейчас, и отсюда пошли бы дальше, все дальше и дальше. Несколько квадрильонов веков, немного октильонов кубических
верст не задержат этой минуты, не заставят ее торопиться:
они только часть и все только часть. Как далеко ни смотри, за твоею далью есть дали. Считай сколько хочешь, неисчислимы года. Мое rendez-vous назначено, сомнения нет: Бог непременно при-
дет и меня подождет, мы с ним такие друзья! Великий товарищ, вечный Возлюбленный, о ком я томлюсь и
мечтаю, он будет там непременно.
48.
Я сказал, что душа не больше, чем тело, и я сказал, что телоне больше, чем душа, И никто, даже Бог, не выше, чем каждый из нас для себя, И тот, кто прошел без любви ко всему хоть минуту, на погре-
бение к себе прошел, завернутый в саван, И я или ты, без полушки в кармане, можем купить всю землю, И глазом увидеть; стручок гороху превосходит всю мудрость
веков, И в каждом деле, в каждой работе юношам открыты пути для
геройства, И о пылинку ничтожную могут запнуться колеса вселенной, И всякому я говорю: будь безмятежен и тверд перед миллионом
вселенных. И я говорю всем людям: не пытайте о Боге! Даже мне, кому все любопытно, не любопытен Бог. (Не сказать никакими словами, как мне мало дела до Бога!). В каждой вещи я вижу Бога, но совсем не понимаю Бога, Не могу я также понять, кто чудеснее меня самого. На лицах мужчин и женщин я вижу Бога, и в зеркале на моем
лице, Я нахожу письма от Бога на улице, и в каждом есть его под-
пись, Но пусть они останутся, где они были, ибо я знаю, что,
куда ни пойду, Мне попадутся такие же во веки веков.
 med.00152.086.jpg
med.00152.086.jpg
ДЕТИ АДАМА.
Запружены реки мои.
Запружены реки мои, и это причиняет мне боль, Нечто есть у меня, без чего я был бы ничто, это хочу япрославить, хотя бы я стоял меж людей одиноко, Голосом зычным моим я воспеваю фаллос, Я пою песнь зачатий, Нам нужны наилучшие дети и в них наилучшие люди, Я пою возбуждение мышц и слияние тел, Я пою песнь для тех, кто спит на одной кровати, (о, неодолимая похоть, О, взаимное притяжение тел—у каждого тела свое влекущее,
манящее тело, вселяющее высший восторг), Ради того, что ночью и днем, голодное, гложет меня, Ради мгновений, когда я зарождаю ребенка, ради этих
застенчивых болей (я воспеваю и их, В них я надеюсь найти то, чего не нашел я нигде, хотя
ревностно искал много лет), Я пою чистую песнь души, вспыхивающей яркими вспышками, Я возрождаюсь, с животными вместе с грубейшей природой, Этим я песни свои насыщаю, а также тем, что сопутствует
этому, Запахом лимонов и яблоков, весенней влюбленностью птиц, Лесною росою, набеганием волн, Диким набеганием волн на сушу (я воспеваю и их), Желанною близостью, видом прекрасного тела,— Пловец обнаженный, плывущий в воде, или на спине на волне
неподвижно лежащий. Близится женское тело, я потупляюсь, а любовная плоть у
меня и дрожит и болит, Загадочный бред, безумство страсти, о, отдаться тебе до конца. (Ближе прижмись и слушай, что я тебе прошепчу: Я люблю тебя, я принадлежу тебе весь, О, только бы нам ускользнуть ото всех, убежать беззаконными
и вольными, Два ястреба в небе, две рыбы в волнах не так беззаконны,
как мы!).
 med.00152.087.jpg
О, дикая буря, через меня проходящая, и я, от страсти
med.00152.087.jpg
О, дикая буря, через меня проходящая, и я, от страсти дрожащий, О, клятва о том, что мы слиты навеки—я и женщина,
которая любит меня и которую я люблю больше, чем
жизнь мою. (О, я охотно сейчас отдал бы все за тебя, И если нужно, да сгину, Только бы ты и я! И что нам до того, что делают и думают
другие! Что нам до всего остального! Только бы нам насладиться
друг другом и исчерпать друг друга совсем до конца,
если иначе нельзя!) Ради того капитана, которому я уступаю все судно, Ради того генерала, который командует мною, командует всеми, Ради нашего пола, основы всего, Ради того, что в тиши я так часто томился в стороне ото
всех, когда множество близких вокруг, а та, кого хочешь, не
близко, Ради долгого задержанного поцелуя в грудь или в губы, Ради тесных об'ятий, которые делают пьяным меня и всякого
другого мужчину, Ради того, что знает хороший супруг, ради этой работы
отцовства, Ради безумства, победы и отдыха (податливое одеяло
отброшено прочь!), Ради того, что она так не хочет, чтобы я от нее оторвался,
и я не хочу отрываться, (Но, нежная, помедли мгновение, и я снова возвращусь
к тебе!), Ради этого часа, когда звезды сияют и падают росы, Я славлю тебя, о, священное дело, и вас, о дети, уготованные
к нему, И вас, о могучие чресла.
* * *
Если тебя окружает живая прекрасная плоть, котораядышит, смеется, —чего тебе более!
 med.00152.088.jpg
Проходить среди людей, и касаться их тела, и руками
med.00152.088.jpg
Проходить среди людей, и касаться их тела, и руками обнимать то мужскую, то женскую шею,—чего мне еще! Бóльшего счастия я не прошу, я плаваю в нем, как в море.
* * *
Это—женское тело! С головы до ног от него исходит божественный свет, Оно влечет к себе ярым и неодолимым притяжением, Под его дыханием я как беспомощный пар; все с меняупадает тогда, остаемся только я да оно; Книги, искусства, религия, время, и то, чего я ждал
от небес, и то, что меня ужасало в аду,—все исчезает тогда; Какие-то нити безумные, какие-то дикие ветви властно из
него пробиваются, Прилив и отлив любви, сладкие муки вздымаемой, крепнущей
плоти. Бьющая влага любви, горячие брызги, обильные, —белый,
густой, исступляющий сок, Новобрачная ночь любви, верно и нежно входящая в
распростертый рассвет. Женщина—это зерно: ребенок рождается женщиной, мужчина
рождается женщиной. Это баня, купель родов, из которой исходят все вещи,
большие и малые, это вечный, неустанный исход. Женщины! Что вам стыдиться! Вы—ворота тела, вы же—
ворота души. Тело мужчины свято, и женское тело свято.
* * *
Мужское тело в продаже! (Я часто ходил до войны побродить на невольничьем рынке!) Глупый купец! Не умеет совсем торговать, я охотно емупомогу! Джентльмены! Пред вами чудо! Какой бы ценой не ценили его, какую бы цену за него ни
просили, цены этой мало. Чтоб создать это чудо, наша земля готовилась миллиарды
веков,
 med.00152.089.jpg
Для него без остановки, без запинки кружились, вертелись
med.00152.089.jpg
Для него без остановки, без запинки кружились, вертелись миры. Взгляните на эту голову. В ней всесокрушающий мозг. Посмотрите на эти руки, как мудры в них жилы и нервы, а
эти зажженные жизнью глаза! А какие чудеса внутри! Там кровь пробегает, эта древняя кровь, эта вечная, красная
кровь; Там набухает и мечется сердце, там все желания, стремления,
страсти; Он не один, он отец тех, кто станут отцами и сами, Многолюдные царства таятся в нем, гордые богатые
республики. И знаете ли вы, кто придет от потомков потомков его! Нет на свете святыни, если тело человека не свято. Мужское и женское чистое, крепкое тело красивее, чем самое
красивое лицо:
Женщина ждет меня.
Женщина ждет и дождется меня, У нее нет недостатка ни в чем, она вмѣщает в себе все безиз'яна, Но не было бы у нее ничего, если бы у нее не было пола, Если бы у истинного мужа не было влаги для нее. Пол вмещает все: и тело, и душу. Все в нашем поле,—надежды и страсти, красоты и услады
земли. Власти, боги и судьи, доброта, здоровье, гордость, Все это пол и от пола; здесь его оправдание. Тот мужчина, который мне люб, без стыда исповедует, что его
пол ему сладок, И женщина, которая мне по душе, без стыда исповедует, что
сладок ее пол для нее. Я уйду от бесстрастных женщин, Я пойду и побуду с той, которая ждет не дождется меня, с теми,
у которых горячая кровь, которые меня утолят, Я вижу, что они достойны меня, и я буду им крепкий супруг. Они мне под стать:
 med.00152.090.jpg
От пламенных солнц и от буйных ветров у них загорелые
med.00152.090.jpg
От пламенных солнц и от буйных ветров у них загорелые лица, Божественна древняя гибкость их тел, Они умеют скакать на коне, плавать, грести, бороться, бегать,
стрелять, отступать, нападать, защищаться. Они горды своим бытием, они ясны, гармоничны и спокойны, Я прижимаю вас к себе, женщины, я ни в праве отпустить вас,
я хочу вам добра, Вы—для меня, я—для вас, но мы служим кому-то Иному: В ваших недрах таятся герои и барды, которые могучее
меня, Они дремлют в ваших телах и не желают проснуться от прикос-
новения другого мужчины, Только я могу их разбудить. Это я, это я, о, женщины, Грубый, нещадный, большой, непреклонный, Но вас я люблю, и больно не сделаю вам больше, чем вам это
надо. Я вливаю в вас свое вещество: тысячи будущих лет я воплощаю
через вас. Я не смею оторваться от вас, покуда я не дам вам на хранение
того, что скопилось во мне, Я долго был запруженной рекою, теперь мою запруду прорвало,
и вот я вливаюсь в вас, Капли, которые в вас я вливаю, да станут могучими, ярыми
девушками, новыми певцами, музыкантами, Любимыми Америкой и мною; За эту затрату любви я потребую, чтобы вы родили наилучших
мужчин и женщин, Я захочу, чтобы они так же сплетались, сливались, как сливаемся
мы сейчас,— Да вырастут севом богатым у них и рождение, и смерть, и
бессмертье, и жизнь, Которые ныне я сею любовью моей.
Час исступления и радости.
Час исступления и радости! О, безумная! Дай же мне волю! (Что это в вихрях, в бурях так освобождает меня? med.00152.091.jpg
О чем, отчего я кричу среди молний и лютых ветров?).
О, испить эти тайные бреды глубже всякого другого мужчины!
О, дикие и нежные боли! (я завещаю их вам, мои дети,
Я возвещаю их вам, о, новобрачные муж и жена!).
О, отдаться тебе, кто бы ни была ты, а ты чтобы мне отдалась,
Наперекор всей вселенной.
О, вернуться обратно в рай! О, женственная и застенчивая!
О, притянуть тебя близко к себе и впервые за все это время
med.00152.091.jpg
О чем, отчего я кричу среди молний и лютых ветров?).
О, испить эти тайные бреды глубже всякого другого мужчины!
О, дикие и нежные боли! (я завещаю их вам, мои дети,
Я возвещаю их вам, о, новобрачные муж и жена!).
О, отдаться тебе, кто бы ни была ты, а ты чтобы мне отдалась,
Наперекор всей вселенной.
О, вернуться обратно в рай! О, женственная и застенчивая!
О, притянуть тебя близко к себе и впервые за все это время прижать к тебе настойчивые губы мужчины. О, загадка, о, трижды завязанный узел, о, темный, глубокий омут,—
сразу распуталось все и озарилось огнем! О, наконец-то умчаться туда, где достаточно простора и воздуха, О, вырваться на волю от прежних цепей и условностей—ты от
твоих и я от моих! Снять, наконец-то, замок, замыкавший уста, Почувствовать, что, наконец-то, сегодня я совершенно доволен, и
больше мне не надо ничего, Сорваться со всех якорей и зацепок! Кинуться куда-то стремглав! То насмешкой, то ласкою звать, призывать к себе гибель, Если нужно, пропасть, затеряться, Напитать всю остальную жизнь этим часом полноты и свободы, Коротким часом безумства и радости.
* * *
Мы снова природа, долго нас не было дома, теперь мы вернулисьдомой, Мы два дуба, мы рядом взрастаем в расщелине скал, Мы на пастбище, в диком стаде, вольные, щиплем траву, Клыкастые, четвероногие, в чаще лесной мы бросаемся одним
прыжком на добычу, Мы два моря, смешавшие, слившие воду в одно, Мы веселые волны—налетаем одна на другую и обливаем друг
дружку, Мы снег, ливень, мороз и тьма,—мы все, что только создано
землею, Мы кружились и кружились в просторах, и вот, наконец, мы дома, Мы исчерпали все, нам осталась лишь воля да радость.
 med.00152.092.jpg
med.00152.092.jpg
АИР 1).
О жутком сомнении во всех обличиях.
Жуткое сомнение во всех обличиях, Тревога: а что если нас надувают? Что если наша доверчивость и наши надежды напрасны, И загробная жизнь есть лишь красивая сказка, И, может быть, то, что я вижу: животные, травы, холмы и люди,бегущие, блистающiе воды, Ночное, дневное небо, краски и формы, может быть, это (и даже
наверное!) Только одни привидения, а настоящая истина еще не открылась
для нас; Как часто все вещи встают предо мной без покрова, будто затем и
встают, чтобы надо мною посмеяться, чтобы меня подразнить, Как часто мне кажется, что ни я, ни другие не знают о них
подлинной правды; Но эти сомнения исчезают (так странно) перед лицом моих
милых, моих друзей. Если тот, кого я люблю, пойдет побродить со мною,
или сядет рядом со мною, держа мою руку в своей, Что-то неуловимо-неясное, какое-то знание без слов и мыслей
охватит нас и проникнет в нас. Неиз'яснимой, неиз'ясняемой мудростью тогда я исполнен, тихо
сижу и молчу, ни о чем уже больше не спрашиваю: Я все же не в силах ответить на свои вопросы о смерти и
о будущей жизни за гробом Но что мне за дело тогда, сижу или хожу, я спокоен— Кто за руку держит меня, тот мои тревоги утолил.
Летописцы грядущих веков.
Летописцы грядущих веков, Ступайте сюда, я хочу вам сказать, что написать обо мне: Обнародуйте мое имя, и мой портрет повесьте повыше, ибо имямое—это имя того, кто умел так нежно любить, И мой портрет—портрет друга, любимого другом. Тростниковое болотное растение с пряным и горьким корнем, Acorus Calamus.
 med.00152.093.jpg
Того, кто не песнями своими гордился, а безграничным в душе
Океаном любви, кто из себя изливал его щедро на всех,
Кто часто блуждал на путях одиноких, о друзьях о желанных
med.00152.093.jpg
Того, кто не песнями своими гордился, а безграничным в душе
Океаном любви, кто из себя изливал его щедро на всех,
Кто часто блуждал на путях одиноких, о друзьях о желанных мечтая, Кто часто в разлуке с другом скорбный лежал по ночам без сна, Кто хорошо испытал, как это страшно, как страшно, что тот,
кого любишь, может быть, втайне к тебе равнодушен, Чье счастье бывало по холмам, по полям, чрез леса пробираться,
обнявшись вдвоем, в стороне от других; Кто часто, блуждая по улицам с другом, клал себе на плечо его
руку и свою—к нему на плечо.
Когда я услыхал к концу дня.
Когда я услыхал к концу дня, как имя мое в Капитолии встретилирукоплесканиями, та ночь, что пришла вослед, не была самой
счастливой, И когда мне случалось пировать, или желания мои исполнялись,
не был я счастлив, Но день, когда я встав на рассвете с постели, освеженный,
очень здоровый, и вдохнул созревшую осень, И, глянув на запад, увидел луну, как она бледнела, исчезая при
утреннем свете, И на берег вышел один и, раздевшись, пошел купаться, смеясь
от холодной воды, и увидел, что солнце восходит, И вспомнил, что мой милый, мой друг, мой любимый теперь по
пути ко мне,—о, счастлив я был тогда. И воздух стал слаще, и пища вкуснее, и день хорошо прошел, И с таким же весельем пришел другой, а на третий под вечер
пришел мой любимый, И ночь наступила, все было тихо, и я слушал, как волны
катились к земле неустанно, Я слушал, как вода шуршала песком, как будто шептала,
меня поздравляя, Потому что кого я любил, тот лежал со мною рядом, спал под
одним одеялом со мною в эту прохладную ночь, И в тихих лунных осенних лучах его лик был обращен ко мне, И рука его тихо, легко лежала у меня на груди, обнимая,—
счастлив я был в эту ночь.
 med.00152.094.jpg
med.00152.094.jpg
Незнакомому.
Незнакомый прохожий! Ты не знаешь, как жадно, как страстноя смотрю на тебя! Тот ты, кого я повсюду искал (это меня осеняет как сон), С тобою, с тобою когда-то мы жили веселою жизнью,— Все припомнилось мне в эту минуту, когда мы скользим
мимоходом, возмужалые, целомудренные, любящие.— Вместе с тобою я рос, мальчишками мы вместе играли, С тобою я ел, с тобою спал, и вот твое тело—не только твое, и
мое—не только мое. Проходя мимо, ты даришь мне усладу своих глаз, своего лица,
своего тела, и за то ты берешь мою бороду, руки и грудь
в обмен. Мне с тобою не обменяться ни словом, мне только думать о тебе
на моем одиноком пути или ночью, когда проснусь, Мне только ждать,—я уверен, что встречу тебя снова, Мне только стараться, как бы не лишиться тебя.
Мы—двое мальчишек.
Мы—двое мальчишек, мы вечно вдвоем! За руки взявшись, мы всюду снуем! Направо, налево, на юг и на север! Локтями пробьемся, захватим руками, в восторге от силы своей! Везде нам и стол, и квартира, и всюду мы пьяны, во всехвлюблены, Законов не знаем, мы сами законы, воруем, деремся, пускаемся
в море,— Дрожите, скупцы, и рабы, и попы! Мы воздухом дышим, мы пляшем у моря, Города осаждая, презирая покой, попирая уставы, издеваясь
над слабым, Мы всюду что нужно берем!
Если кого я люблю.
Если кого я люблю, я бешусь порою от тревоги, что люблюнапрасной любовью,
 med.00152.095.jpg
Но теперь мне сдается, что нет напрасной любви, что оплата
med.00152.095.jpg
Но теперь мне сдается, что нет напрасной любви, что оплата здесь верная, та или иная. (Я любил одного человека, который меня не любил, Но вот—оттого я создал эту песню).
Ты, за кем, бессловесный.
Ты, за кем, бессловесный, так часто ходил я повсюду, чтобытолько побыть близ тебя, Когдя я шел с тобою рядом, или сидел невдали, или в комнате
вместе с тобою оставался, Ты и не думал тогда, какой тонкий электрический огонь играет
во мне из-за тебя.
Разные стихотворения.
Европа.
Из душного рабьего логова Она молнией прянула и сама на себя удивляется, Ногами она топчет золу и лохмотья, А руками сжимает глотки королей. О, надежда и вера! О, страдания патриотов-изгнанников, искупающих дух начужбине! О, сколько болевших печалью сердец! Вернитесь сегодня на родину, да будет вам новая жизнь! А вы, получавшие золото за то, что чернили Народ, Узнайте, лжецы и стяжатели, что за все ваши пытки, за судороги, За то, что вы, как черви, сосали простодушно-доверчивых ни-
щих, За то, что лгали, обещая, королевские уста И, обеты нарушая, хохотали,— Народ отмщает прощением, ему не нужны ваши головы, Ему омерзительна свирепая лютость царей!
 med.00152.096.jpg
Но нежная милость взрастила жестокую гибель, и запуганные
med.00152.096.jpg
Но нежная милость взрастила жестокую гибель, и запуганные короли пришли назад, Идут величаво и гордо, и каждого окружает свита: поп, вымо-
гатель, палач, Тюремщик, законник, барин, солдат и шпион. А сзади всех—смотри!—какой-то призрак ползет и крадется,
мглистый, как ночь, Весь в багряницу закутан, лоб, голова и тело обмотаны кроваво-
красными складками. Не видно ни глаз, ни лица, Но из-под этих алых одежд, приподнятых невидимой рукою, Один единственный скрюченный палец, указующий ввысь, в небеса, Появляется, как головка змеи. А в свежих могилах лежат окровавленные молодые трупы, И натянуты веревки у виселиц, и носятся пули владык, И деспоты громко смеются,— Но все это даст плоды, и плоды эти будут хорошие. Эти трупы юношей, Эти мученики, висящие в петле, эти пронзенные серою сталью сердца Недвижны они и холодны, но все же они вечно живут, и их
невозможно убить. Они живут, о короли, в других таких же юных, Они в оставшихся братьях живут, готовых снова восстать про-
тив вас, Они были очищены смертью, смерть восвеличила и умудрила их. Над каждым убиенным за свободу, из каждой могилы возникает
семя свободы, а из этого семени—новое. Далеко разнесут его ветры для новых и новых посевов, Его взлелеют дожди и снега. И каждая душа, покинувшая тело, убитое тираном-палачом, Незримая парит над землею, шепчет, зовет, стережет. Свобода! пусть отчаются другие, я вовек не отчаюсь в тебе. Что? этот дом заколочен? Хозяин куда-то исчез? Ничего, он скоро вернется, ждите его. Приготовьтесь для встречи,—вот уже идут его вестники.
 med.00152.097.jpg
med.00152.097.jpg
Бей, бей, барабан!
Бей, бей, барабан! Труби, труба, труби! В окна, в двери ворвитесь, как буйная рать! В церковь!—долой молящихся! В школу!—долой школяров! Прочь от невесты, жених, не время теперь женихаться! Пахаря с пашни прочь! Не время пахать и косить! Бешено гремят барабаны! Яростно трубы трубят! Громче, барабаны и трубы! Гряньте над грохотом народа, над громыханьем колес! Что? для спящих готовы постели? Кто же заснет в эту ночь? Не торговать, торгаши! Барышники, сегодня не барышничать! Смеют ли говоруны говорить? Певец, прекрати твою песню! Что? адвокат попрежнему мямлит свою речь в суде? Громче же, барабанная дробь! Кричи, надрывайся, труба! Заглушите младенческий крик и материнские вопли! Что за дело до молящих и плачущих, до стариков перепуганных! Пусть даже мертвецы задрожат, непогребенные, ждущие гроба! Вопите, кричите, трубы! Греми, роковой барабан!Годы современные.
Стерты рубежи между царствами, проведенные в Европе царями, Ныне возведет сам народ свои рубежи на земле,— Никогда еще не был простой человек более подобен Богу, Он вездесущ на земле и на воде, Он спаял, он связал воедино все страны, всю географию мирапароходом, телеграфом, газетой, фабриками, всюду раз-
бросанными. Что это за шопот, о страны, бежит между вами, проносится
в пучине морской? Все народы беседу ведут? Не создается ли у шара земного
единое сердце? Человечество стало единое тело, сплотилось в единый народ,
тираны дрожат, их короны, как призраки, тают. Кто предскажет, что завтра случится, дни и ночи исполнены
знаменьями, О, вещие, пророческие годы!
 med.00152.098.jpg
Деянья, еще не содеянные, вещи, еще не созданные, нагрянули
med.00152.098.jpg
Деянья, еще не содеянные, вещи, еще не созданные, нагрянули на меня, я их чувствую в экстатическом лихорадочном
сне, Они нахлынули на меня, они давят меня, они насквозь прони-
цают меня, И вот у меня перед взором нет ни Америки, ни Европы, Все прошлое, завершенное, отступает куда-то во мрак, Надвигается огромное будущее, идет и идет на меня. Я вижу, горизонт расступается, Я вижу свободу в полном вооружении, надменную, как триум-
фатор, А с нею плечо к плечу шествуют Мир и Закон.
Ты, мальчишка из прерий.
Ты, загорелый мальчишка из прерий, И до тебя приходило в наш лагерь много желанного, жданного, Хвалы и дары приходили, и сытная пища, пока, наконец,с новобранцами Не прибыл и ты, бессловесный; в руках у тебя ничего, но мы
глянули один на другого, И больше, чем всеми дарами вселенной, ты одарил меня.
Когда я читаю книгу.
Когда я читаю книгу, где описана знаменитая жизнь, Я говорю: разве в этом была вся жизнь человеческая? Так, если я умру, и мою вы опишите жизнь? Будто кто-нибудь знает, в чем моя жизнь была? Нет, я и сам ничего не знаю о моей настоящей жизни: Несколько темных следов, разбросанные знаки, намеки, Которые я сам для себя пытаюсь здесь начертать.Одной певице.
Прими этот дар, Я его берег для героя, для вождя, для трибуна, Для того, кто послужит великому делу, Старому делу свободы и преуспеяния народов; med.00152.099.jpg
Кто с вызовом глянет в глаза деспотам;
Кто подымет мятеж.
Но я вижу теперь, что мой долгохранимый подарок,
Как им, принадлежит и тебе.
med.00152.099.jpg
Кто с вызовом глянет в глаза деспотам;
Кто подымет мятеж.
Но я вижу теперь, что мой долгохранимый подарок,
Как им, принадлежит и тебе.
Я знаю, что лучшее время—мое.
Я знаю, что лучшее время—мое, и лучшее место—мое. Я всегда налегке в дороге, придите все и послушайте,— Мои знаменья: дождевой плащ и добрая обувь, и палка, сре-занная в лесу.
Из "Песни о выставке".
1.
Муза, беги из Эллады, покинь Ионию, Сказки о Трое, об Ахилловом гневе забудь, О скитаниях Одиссея, Энея. К Парнасу табличку прибей: "За отъездом сдается в наем". И такое же повесь объявление На всех итальянских музеях, на зàмках испанских, германских, И на яффских вратах, на сионской стене и на горе Мориа, Ибо новое царство,—пошире, вольнее!—ждет, как царицу, тебя!2.
Наши призывы услышаны! Смотрите: она идет! Я слышу шелест ее одежды, я вдыхаю аромат ее дыхания. О, царица цариц! О, смею ли верить, Что изваяния богов и древние храмы не властны тебя удержать, И Виргилий, и Данте, и мириады преданий поэм,— Неужели ты кинула все и прибежала сюда?3.
Да, ей уже не о чем петь—там над иссякшим Кастальским ключем, Ибо нем египетский Сфинкс: у него перебита губа, Каллиопа навеки замолкла, и Мельпомена, и Талия мертвы, Иерусалим—горсть золы, развеянной всеми ветрами, Крестоносцы, полночные призраки, растаяли вместе с рассветом. med.00152.100.jpg
Где людоед Пальмерин? Где башни и замки, отраженные водами
med.00152.100.jpg
Где людоед Пальмерин? Где башни и замки, отраженные водами Уска? Где рыцари Круглого Стола, где Артур, Мерлин, Ланселот? Сгинули! сникли! пропали! как испарение, исчезли 1). Скончался! Скончался для нас навсегда этот мир, когда-то могучий, Ныне опустелый—отлетела душа!—призрачный, опустелый мир, Шелками расшитый, слепительно-яркий, но чужой, королевский,
поповский! В склепе фамильном схоронен, Корона его и доспехи его с ним заколочены в гроб, И герб его—алая страница Шекспира, И панихида над ним—сладко тоскующий стих Теннисона.
4.
К нам поспешает беглянка, Я вижу ее, если вы и не видите, К нам торопится на rendez-vous, пробивает дорогу локтями,шагает в толпе напролом, Жужжание наших машин и резь паровозных свистков ее не
страшат, Ее не смущают ни стоки дренажа, ни циферблат газометра, Приветно смеется и рада остаться у нас! Она здесь! на кухне, средь посуды!
5.
Но, кажется, я позабыл приличье! Позвольте же представить незнакомку! (Я ведь только для тогои живу, только для того и пою). Колумбия 2)! Во имя свободы, приветсвуй бессмертную деву. Подайте друг другу руки,—и будьте отныне как сестры. Ты же, о, Муза, не бойся! новые дни осенили тебя, Против этих стихов энергично протестовал Оскар Уайльд. В его лекции "Ренессанс английского искусства" читаем: "Тщетно призывается муза поэзии—хотя бы и трубным гласом Уота Уитмэна—эмигрировать из Ионии и Греции и прибить к Парнасу табличку: "за отъездом сдается в наём". Зов Каллиопы еще не умолк; азиатский эпос не вымер; Сфинкс не лишился языка, и не высох Кастальский источник. Ибо искусство есть сущность жизни, и ему неведома смерть. Искусство—абсолютная реальность, и ему нет дела до фактов". (Собр. соч. Оскара Уайльда, изд. "Нивы", т. IV, 134). Так Уитмэн называл Америку.
 med.00152.101.jpg
Вкруг тебя какие-то новые, какие-то странные люди, небывалая
med.00152.101.jpg
Вкруг тебя какие-то новые, какие-то странные люди, небывалая порода людей, Но сердца все те же, и страсти те же, Люди внутри и снаружи все те же, Не лучше, не хуже,—все те же лица людей! И та же любовь, и красота, и обычаи те же.
6.
Прочь эти надоевшие басни, Прочь эти вымыслы, эти романсы, драмы дворов чужестранных, Эти любовные стансы, облитые патокой рифмы, эти интриги истрасти бездельников, Годные лишь для балов, где танцоры кружатся всю ночь,— Пустая забава, нездоровый досуг ничтожнейшей кучки людей, С духами, вином и в тепле, при освещении свечек.
7.
Муза! я тебе принесу наше здесь и наше сегодня! Пар, керосин и газ, великие железные пути! Трофеи нынешних дней: нежный кабель Атлантика, И Суэцкий канал, и Готардский тоннель, и Бруклинский мост! 1). Всю землю тебе принесу, как клубок обмотанную рельсами, Наш вертящийся шар принесу 2). Мост длиною в 1 1/2 версты, соединяющий Нью-Йорк с городом Бруклином. Замечательно, что в том же 1855 году, когда вышла книжка Уитмэна, подобные идеи развивал во Франции поэт Максим Дюкан (Maxime du Camp) в своих "Современных Песнопениях". В старом Некрасовском "Современнике" (1855 г., т. III) мы нашли о нем такие строки: "Поэт уверяет нас, что Диана давно перестала ожидать в роще Эндимиона, что Аполлон умер уже от дряхлости на своем Парнасе, что Пегас устарел... Что же воспевает он сам? Железные дороги, локомотивы, пар, газ, электричество, хлороформ и т.д. Все это прекрасно, даже, может быть, очень умно и остроумно, и стихотворения Дюкана, по крайней мере—предметы его песнопений, действительно, современны, но мы сомневаемся, чтобы во всем этом было много поэзии". Интересующиеся Дюканом могут прочесть о нем в превосходной книжке Я. Тугендхольда "Город во французской поэзии". Там, между прочим, приводится такой отрывок из знаменитого манифеста Дюкана: "Открывают пар, а мы воспеваем Венеру! Открывают электричество, а мы воспеваем Вакха! Это абсурд! Сколько раз описывали жерло вулкана, отчего же нам не воспеть горн завода в Creuzot!"Русское об Уитмэне.
Эти строки предназначены для тех, кто желал бы познакомиться с американским поэтом исключительно по русским источникам. Источники попадаются ценные, а если я чересчур педантично отмечаю их мельчайшие погрешности, то это потому, что мне хочется дать в руки читателю прочный и надежный материал.
Первые статьи и заметки об Уитмэне.
В "Заграничном Вестнике" В. Корша в 1882 году (июль, том III) была переведена лекция американского журналиста Джона Свинтона о литературе Соединенных Штатов. В этой лекции Уитмэну посвящены следующие строки:
"Уолт Гуитман—космический бард "Листьев травы". О нем существуют два совершенно противоположных мнения: одни утверждают, что он безумный шарлатан, другие—что он оригинальнейший гений. Он принадлежит к старому типу американских рабочих. Для него жизнь—бесконечное торжество, и сам он представляется гигантским упоенным Бахусом. Для него все виды живописны, все звуки мелодичны, все люди друзья. В Англии в числе поклонников Гуитмана есть величайшие современные умы. В Германии он известен ученым литераторам более, чем кто-либо из современных американских поэтов".
Кажется, эти строки—первое, что появилось об Уитмэне в России. John Swinton был старинный приятель поэта и благоговел пред его дарованием.
 med.00152.103.jpg
med.00152.103.jpg
* * *
Год спустя в том же "Заграничном Вестнике" (1883 г., март, VI) появилась об Уитмэне более подробная статья. Называется "Уолт Гуитман", принадлежит Н. Попову. Написанная весьма старательно, эта статья испещрена варварски-переведенными цитатами:
Многие потеют, пашут и жнут, и потом мякину получают в награду.
И немного бездельников постоянно заявляют претензию на пшеницу
и получают ее,—
таков образчик этих переводов. Попадаются и неточности; Уитмэн, напр., говорит, обращаясь к умершему Линкольну:
Нет, это не сон, что ты умер!—
а у г. Попова он как будто сообщает покойнику:
Мне снилось, что тебя убили!
Плотничий топор, восхваляемый Уитмэном, упорно называется широким топором, и т.д. Тон у статьи восторженный: "Кто этот Уолт Гуитман? Это дух возмущения и гордости, Сатана Мильтона. Это Фауст Гёте, но более счсатливый,—ему кажется, что он разгадал тайну жизни; он упивается жизнью, какова она есть; он прославляет рождение наравне со смертью, потому что он видит, знает, осязает бессмертие. Это всеиспытующий натуралист, приходящий в восторг при изучении разлагающегося трупа настолько же, насколько при виде благоухающих цветов.—Каждая жизнь слагается из тысячи смертей!—восклицает он".
Статья заметно испорчена цензурой.
* * *
"В Энциклопедическом Словаре" (Брокгауза и Эфрона) заметка об Уитмэне принадлежит г-же Зинаиде Венгеровой. Здесь он называется Вальтом Витманом, и в его поэмах, по мнению критика,—"при всей глубине отдельных частей, общая хаотическая непонятность замысла и антихудожественные приемы мало соответствуют репутации гениальности, признаваемой за автором". Даты и указания г-жи Зин. Венгеровой не всегда верны. У Вильяма О'Коннора нет книги The Good Gray Bucke, как сказано в словаре; книга эта (скорее, брошюрка, памфлет) назывется The Good Gray Poet. Неточно также указание на "обстоятельную статью о Витмане" в "Заграничном Вестнике" за 1882 г. Там этой статьи не имеется.
 med.00152.104.jpg
med.00152.104.jpg
* * *
В 1898 г. в "Русском Богатстве" появилась статья г. Дионео "Оскар Уайльд и Уот Уитмэн", впоследствии перепечатанная в прекрасной книге этого автора "Очерки современной Англии". Г. Дионео указывает, что Уитмэн "несомненно самый популярный теперь поэт английской, американской и австралийской демократии". Сборник стихотворений поэта, по словам г. Дионео, разошелся в сотнях тысяч экземпляров. Вы его найдете в каждом коттедже, в каждой бесплатной читальне. Сущность этой книги автор видит в том, что, "исходя из эгоизма, Уитмэн проповедует самый широкий, всеобъемлющий альтруизм", и что носительницей этого альтруизма является демократия. "Для Уитмэна Америка и демократия одно и то же",—говорит г. Дионео.
К сожалению, интересная эта статья не свободна от мелких неточностей.
В 1855 г. Уитмэн основал газету "Freeman",—говорит, напр., г. Дионео. Это неверно. Газета была основана в 1850 году.
В 1858 году вышел сборник Уитмэна "Leaves of Grass",—утверждает г. Дионео. Это тоже неверно. Сборник вышел в 1855 г.
Статья Конвея об Уитмэне появилась в 1866 году, а не в 1886 году, (Fortnightly Review, X). На службу в министерство внутр. дел Уитмэн поступил в 1865 г., а не в 1866 г., и т. д. Впрочем, эти мелкие промахи можно отнести к опечаткам; но напрасно г. Дионео утверждает, будто Уитмэн записался в лазарет из ненависти к убийству. В лазарет он записался, чтобы ухаживать за больным братом, а ненависти к убийству не могло быть у человека, который писал: Я славил мир во время мира, но теперь у меня боевой барабан, Алая, алая битва—ей мои гимны теперь!
Точно так же неверно указание, будто во время войны Уитмэн познакомился с Линкольном. Встречая президента на улице, Уитмэн, как и все другие, кланялся главе государства, а тот отвечал. Едва ли это можно назвать знакомством 1). Существует легенда, вряд ли, к тому же, достоверная, будто однажды, когда Линкольн стоял у окна, по улице проходил Уитмэн, и будто Линкольн сказал: "Это настоящий мужчина". Но и отсюда далеко до знакомства.
 med.00152.105.jpg
med.00152.105.jpg
Ю. Айхенвальд об Уоте Уитмэне.
В "Русской Мысли" за 1907 год (кн. VIII) Уитмэну посвящена небольшая статья Ю. Айхенвальда. Критик называет творчество поэта художественной Ниагарой и находит у него "буйство ошеломляющих слов".
"Уитмэн—самый нестесняющийся человек в мире,—говорит г. Айхенвальд.—Он выражается так, что все мы и даже другие поэты должны устыдиться своего робкого, приличного, тепличного языка. Он имеет смелость называть вещи их именами, и вещи от этого загораются радостью и блеском. Уитмэн опьянен действительностью, и, пьяный хозяин вселенной, он идет по миру, как по улице, идет и гениально горланит... Соленое дыхание океана, раскаты приближающегося гула действуют грозно и освежительно на робкого слушателя, стоящего на берегу. Всех нас, изнуренных сомнениями, измельчавших в маленькой работе и заботе, всех нас, лилипутов духа, бодрит гениальная самоуверенность великана. И когда находишься около него, хочется и самому говорить не своим обычным тихим голосом, а громче и громче, хочется перенять его энергичную речь без лишних слов и союзов, без опостылевшей мягкости. И становится радостно и удивленно: неужели все так просто и просторно, как рисует и поет Уитмэн? Неужели вся мудрость в том, чтобы ненасытимо ощущать жизнь? Неужели для того, чтобы быть поэтом, надо только позволить себе быть человеком?"
Интересно указание г. Айхенвальда, что в Уитмэне мы ощущаем не сына, а отца. "Огромный, громкий, титанический, он тем отличается от нас, что все чувствуем себя детьми, что миросозерцание у нас—детское, послушное, а Уитмэн—отец. Он забыл, что сам рожден; он не оборачивается назад и, отец, pater, державно применяет к дочери-жизни свою patria protestas". "Уитмэн, многорождающий, идет по земле, и от широкой поступи его поднимаются роскошные побеги жизни, побеги человеческой травы".
Уитмэн, как поэт будущего.
В статье г. М. Неведомского "Об искусстве наших дней" ("Соврем. Мир", 1909, IV) есть страницы, посвященные Уитмэну.
Автор хотел дознаться, какие элементы будущего искусства имеются в искусстве современном. Для этого он рассмотрел произведения Леонида Андреева, Ибсена, Рихарда Дэмеля, Эмиля Верхарна и Уота Уитмэна. У всех этих писателей автор отыскал
 med.00152.106.jpg
med.00152.106.jpg
нечто общее: все они заменяют мораль эстетико-философским пониманием жизни, выше всего они ставят человеческую личность; и все они стремятся к слиянию с космосом, к универсальному миросозерцанию.
Эти три черты особенно выдаются у Уитмэна. Книга Уитмэна, по словам критика, "наиболее богатое элементами будущего поэтическое произведение, какие только писаны до сих пор".
Жаль, что и в этой содержательной статье попадаются иногда неточности. Уитмэн умер не в 1898 г., а в 1892 году. Он не был анархо-социалистом, как утверждает г. Неведомский. В отрывках, которые при этом приводятся, очень странной кажется строчка: И фигуру центральнее всех.
Центральность есть понятие абсолютное и сравнительных степеней не допускает.
Уот Уитмэн в романе.
Прекрасные строки об Уитмэне мы встретили в "Русском Богатстве" за 1909 год в романе Iоганна Iенсена "Колесо" (VII-XII, перевод Т. А. Богданович). Один из персонажей романа говорит: "Вещи, которые мы считали скучными и низменными, теперь поют, холодная проза действительной жизни превратилась в музыку. Разговаривая, люди не подбирают ведь рифм,—это делали дикие пастушеские народы древних времен и сумасшедшие люди в наши дни, и если кто хочет превратить в музыку наше время, ему незачем пользоваться стихотворными размерами, которые соответсвовали танцам в древности. Нужно разбить эту форму. Локомотив обладает собственным ритмом, и улица Чикаго звучит другим темпом, чем пастбища в Аркадии. Но нам светит прежнее солнце, и когда нам становится достаточно тепло, мы ощущаем все окружающее, как поэзию, и пытаемся слиться со всем, что звучит вокруг. В этом задача Уитмэна. Разве вы не слышите, что он влюблен во все в Америке и что он не может не петь?.. О, это только современный человек в пиджаке и воротничке, он стоит на городском трамвае и испускает радостные крики, потому что он тут. А вы непременно хотите, чтобы у него был козий мех на плечах и колчан со стрелами, иначе вы не можете поверить ему"...("Русск. Богатство", Июль, 1909 г.).
 med.00152.107.jpg
med.00152.107.jpg
Кнут Гамсун об Уоте Уитмэне.
Кнут Гамсун в своей книге "Духовная жизнь Америки" (Собр. сочин. изд. "Шиповника", т. I) уделил Уитмэну очень много страниц,—и так как это единственная (покуда) на русском языке отрицательная характеристика нашего поэта, то на ней мы остановимся подольше.
Уитмэн, по словам Гамсуна, лирически настроенный американец. Он мало или даже, пожалуй, ничего не читал (!) и почти совсем ничего не пережил (!). Язык его поэзии далеко не самый дерзновенный, не самый страсный в мировой литературе, он только самый безвкусный и наивный из всех. В этой поэзии не видно ни искры поэтического таланта. Стихи Уитмэна автор зовет каталогами, реестрами, таблицами умножения. Они восхитительны по своей неудобочитаемости. Требуется, по крайней мере, вдвое больше вдохновения для чтения этих стихов, нежели для их написания. В Уитмэне хотели видеть первого американского народного поэта. Это можно принять за насмешку.
Статья написана в милом ироническом тоне. Автор относится к Уитмэну с каким-то веселым презрением. "Если бы какой-нибудь из наших певцов демократии создал подобную поэму и принес бы ее в газету, я очень склонен предполагать, что в редакции попросили бы разрешения пощупать у певца пульс и предложили бы ему стакан воды"...—но в Америке и этот смешной старикашка может сойти за поэта,—добрый потешный дикарь!
Русский читатель, знакомый с отзывами Кнута Гамсуна о Толстом и о Достоевском, знает уже, как относиться к подобным выступлениям даровитого новеллиста. Гамсун едва ли осведомлен даже в биографии Уота Уитмэна. По его, напр., сообщению, Уитмэн "почти совсем ничего не пережил". Если можно быть три года среди умирающих, перевязать десятки тысяч ран, и при этом не пережить ничего, Кнут Гамсун действительно прав,—но не забудем, что, кроме того, Уитмэн был чиновником, плотником, репортером, романистом, фермером, учителем, и что обо всем этом Гамсун тоже не сказал нам ни слова,—и мы вполне оценим его утверждение, будто "в жизни Уитмэна очень мало событий".
Уитмэн, пожалуй, ничего не читал,—продолжает Кнут Гамсун. Но мы знаем, что Уитмэн зачитывался у себя на острове Гомером, Эсхилом, Софоклом, Нибелунгами, Оссианом, Шекспиром, "Божественной комедией". Уитмэн с восторгом вспоминал из детских времен Вальтер-Скотта, "Тысячу и одну ночь". В его библиотеке были Эпиктет, Омар Хайам, Фельтон, Тикнор, Жорж-
 med.00152.108.jpg
med.00152.108.jpg
Занд. Он в юности подражал Эдгару По, называл своим учителем Эмерсона, полемизировал с Карлейлем, писал о Диккенсе, о Теннисоне, говорил о Льве Толстом и Шиллере,—все это было бы несколько трудно, если бы он ничего не читал.
Поступив чиновником в министерство финансов, Уитмэн даже ночи стал проводить за чтением; частенько пробирался он с вечера в министерскую библиотеку и, пользуясь казенным освещением, зачитывался там редкими книгами, о которых до того времени мог только мечтать (W.W. by Bliss Perry, 181).
И откуда взял Кнут Гамсун, будто "Уитмэн всегда смеялся". "Ни разу я не видел, чтобы он засмеялся или хотя бы улыбнулся",—говорит об Уитмэне Конвей. То же утверждает и Эдуард Карпентер.
Очень вышучивает Гамсун пристрастие Уитмэна к перечислению предметов, к реестрам и каталогам, но стоит только нам вспомнить Фетовское "Шопот, робкое дыханье" или иные строфы из Майковского "Савонароллы", чтобы признать, что "каталоги" отнюдь не исключают поэзии.
Даже самое появление "Листьев травы" в печати кажется Гамсуну смешным. "Изумительная наивность Уитмэна соблазнила его издать свои сочинения в печати",—говорит он. И мы можем прибавить, что изумительная наивность Свинберна, Эмерсона, Россети, Бьернстерне-Бьернсона, Фрейлиграта, Бальмонта и др. соблазнила их придти от этих сочинений в восторг.
Едиственное оправдание для статьи Гамсуна то, что она написана больше четверти века назад и что сам автор "Пана" едва ли теперь согласится хотя бы с одним ее словом.—"Это юношеская моя работа,—заявил он недавно в газетах,—она не соответствует больше моему мнению об Америке. (см. "Речь", 2 авг. 1910 г.).
Был ли Уот Уитмэн социалистом.
В статье Максима Горького "Разрушение личности" (Очерки философии коллективизма, 1909) неточно указание, будто "начав с индивидуализма и квиетизма", Уитмэн, вместе со многими другими, "пришел к социализму, к проповеди активности" и т.д. Это явное недоразумение. Уитмэн как был индивидуалистом сначала, так и остался им до конца. Социализм был ему чужд совершенно.
—Дела и без того идут недурно,—говорил он за пять лет до смерти,—и естественный ход вещей, пожалуй, даст лучшие результаты, чем может обещать какая-нибудь теория социализма. Слишком много шкурного себялюбия у обоих (борющихся) сторон.
 med.00152.109.jpg
med.00152.109.jpg
Душевное благородство, вот что здесь нужно. Рабочие стачки его не создадут... Пускай рабочий, кто бы он ни был, примет настоящее положение вещей и побеждает силою внутреннего благородства. Тогда всеобщее сочувствие будет на его стороне. Пусть он отвергнет все соблазны и, при самой последней крайности, не впадает в мелочность, в скаредность, пусть будет героем, и его победа обеспечена". (Isaac Hull Platt: "Walt Whitman", 1904, p. 94-95).
Как бы кто ни относился к этой вере в естественный ход вещей и в личное самосовершенствование (а нам она, признаться, претит), ясно, что ни о каком социализме здесь говорить нельзя. "Величайший из реформаторов, Уитмэн, не связывал себя ни с одной специальной доктриной,—говорит Mr. Platt.——Реформатор духа, он одновременно включал в себе анархиста и социалиста, демократа и аристократа, но никто из этих людей не мог бы назвать его своим". Если что разросталось к концу жизни у Уитмэна, так это его мистицизм. В последних его стихотворениях (напр., в "Passage to India"), как справедливо указывает критика, преобладает мистический элемент. (См. Bliss Perry. "Walt Whitman", p. 194). Так что и с этой стороны Уитмэн М. Горькому не союзник, хотя нельзя не отметить, что, руководствуясь общим духом их творчества, иностранная критика любит сближать этих двух демократических писателей, и еще недавно французский писатель Вильдрак объявил в патетической статье, что Верхарн, Киплинг и Горький суть истинные продолжатели Уитмэна.
Вильям Джемс об Уоте Уитмэне.
В книге покойного Вильяма Джемса "Многообразие религизного опыта" (пер. с англ. под ред. С. В. Лурье, изд. журн. "Русск. Мысль", Москва, 1910) есть страницы, посвященные Уитмэну. Знаменитый американский ученый не видит в стихотворениях Уитмена того настоящего, величавого пафоса, который был, напр., присущ древним грекам и римлянам. "В его оптимизме—говорит Джемс,—есть что-то деланное, слишком заносчивое, в проповеди его слышна бравада и хвастливость, роняющие ее в глазах читателей, несмотря на симпатию последних к уитмэновскому оптимизму и на их готовность поставить его наряду с пророками". Эта деланность и нарочитость уитмэновского оптимизма, тем не менее, не мешает Джемсу признать за ним полнейшую искренность, ибо, по его словам, нарочитое "сознательное поддерживание в себе душевного здоровья, как религиозного настроения, соответствует могущественным свойствам человеческой природы".
 med.00152.110.jpg
med.00152.110.jpg
И потому правы те, кто смотрит на Уитмэна, как на воскресителя вечной религии природы. "Он заразил всех своей любовью к ближним, тем счастьем, какое он находит в одном факте своего и их существования. В честь его учреждается ряд обществ, существует периодический орган для пропаганды этой новой религии, где есть уже и своя ортодоксия, и свои ереси. Уже есть подражания его оригинальному стихосложению. Его открыто сравнивают с основателем христианской религии и не всегда в пользу последнего" (стр. 75-79).
Об Уитмэне же говорится и в другой книге Вильяма Джемса—"Прагматизм", напечатанной по-русски в том же году, что и первая. (Перевод П. Юшкевича, изд. "Шиповник").
Джемс пытается объяснить аудитории поэму Уитмэна "Тебе", которая у нас приводится полностью на странице 62.
"Это изящное стихотворение,—говорит Джемс,—производит, разумеется, огромное впечатление, но есть два различных способа рассматривать его, и оба имеют свои преимущества".
Одно токование может быть таково: чем бы ты ни казался извне, в сущности твоей ты всегда прекрасен и счастлив,—и пускай такая философия квиетизма зовется духовным опиумом, пускай она ведет к безразличию, Джемс готов приветствовать ее, "ибо за ней стоят многочисленные, оправдывающие ее исторические факты".
"Другие толкователи увидят здесь воспевание тех прекрасных качеств, которые имеются в каждом из нас, вопреки всем нашим недостаткам: забудемте все низкое в себе самих, станем думать только о высоком, сольем свою жизнь с ним, и тогда через гнев, несчастия, невежество и скуку проложит себе дорогу то, что мы сами создаем из себя, то, чем мы собственно и являемся в глубочайшей своей сущности".
"С какой бы из этих двух точек зрения мы ни рассматривали разбираемое стихотворение, каждая из них ободряет нас, внушает нам верность самим себе. Оба эти способа дают удовлетворение; оба они освящают человеческую жизнь. Оба рисуют портрет "Всякого" на золотом фоне".
Уот Уитмэн и К.Д. Бальмонт.
Знаменитый поэт Бальмонт посвятил Уоту Уитмэну несколько прекрасных статей:
1) В "Весах" 1914, VII—"Певец личности и жизни".
2) В "Перевале" 1907, III—"Поэзия борьбы" ("Идеализованная демократия").
3) В "Морском Свечении" 1910, стр. 167.—"О врагах и вражде".
 med.00152.111.jpg
med.00152.111.jpg
4) В предисловии к книге "Уольт Уитман. Побеги травы". Книгоиздательство "Скорпион". М. 1911 г.
В первой из этих статей Бальмонт прославляет Уитмэна за то, что он поэт радости. Все другие гении кажутся ему певцами печали и боли: Шекспир и Данте, Гёте и Байрон, Лев Толстой и Достоевский; лишь Уитмэн да еще Шелли были истинными воспевателями радостной жизни.
"Поэт с телом гладиатора,—пишет г. Бальмонт,—с гармоничным лицом красивого зверя, полного природных сил, Уитмэн был одним из тех отошедших первородных людей, который проводили целые дни, недели и месяцы в лесах и степях"... "Религия Уитмэна—космический энтузиазм".
К сожалению, мы должны указать, что эти эффектные строки г. Бальмонту почти не принадлежат. Есть маленькая книжка John Addington Symonds'a: Walt Whitman, a Study, и в ней читатель встретит последовательно и тело гладиатора (14 стр.), и первородных людей (стр. 17), и космический энтузиазм (57 стр.).
Так что напрасно г. Неведомский в своей статье об Уитмэне пишет: "Бальмонт метко определяет религию этого странного поэта, как "космический энтузиазм".
И г-жа Елена Ц. напрасно пишет в "Весах": "Бальмонт дает нам красивую, сжатую точную формулу миросозерцания Уитмэна: "религия Уитмэна—космический энтузиазм".
Эти комплименты, конечно, относятся к Симондсу, и г. Бальмонт их принимает напрасно. Вообще вся статья поэта написана под сильным влиянием Симондса, которого он почему-то в ней не упоминает ни разу.
Вот образчики этого "влияния":
Саймондс. 1893 г.
"Он—необъятное древо, древо Игдразиль, запустившее корни глубоко в самые недра земли и развернувшее сказочную свою вершину во всю бесконечность неба" (стр. 156).
Уитмэн рассматривал ее (демократию) не только как политическое явление, а, главным образом, как форму религиозного энтузиазма" (стр. 108).
"Выделять из себя магнетизм... тем, что ты силен, здоров и свободен" (стр. 74).
Бальмонт. 1904 г.
"Сказочное древо Игдразиль, чьи ветви охватывают мир, и чьи корни в подземном царстве, и чья зеленая вершина в бесконечном Небе" ("Весы", стр. 32).
"Демократию Уитмэн рассматривает, главным образом, не как политическое явление, а скорее как форму религиозного энтузиазма" (стр. 21).
"Каждый выделяет из себя магнетизм тем, что он силен, здоров и свободен" (стр. 21).
 med.00152.112.jpg
med.00152.112.jpg
Симондс говорит о той ветке сирени, которую поэт возложил на гроб Линкольна. Сирень по-английски—lilac; г. Бальмонт, списывая впопыхах, принял lilac за лилию, и у него получилось: "лилейный куст"! Лилия, растущая кустарником!—рискованная ботаника. И это это за первородные люди, с которыми сравнивает Бальмонт поэта? У Симондса просто сказано: первые люди, пионеры. Так американцы называют своих предков, первых выходцев из Европы, поселившихся среди первобытных американских лесов. Первородные же люди здесь ни при чем. Но, несмотря на такие изъяны, статья Бальмонта очень значительна: в ней до двадцати стихотворных отрывков из Уитмэна, и ей многое можно простить за ее неподдельную восторженность.
Во второй статье К. Д. Бальмонт изображает Уитмэна, как поэта революции, и снова приводит очень много отрывков из его впервые переведенных стихов. В третьей статье Уитмэн трактуется как поэт мира и войны. В 1911 г. вышла книга Бальмонта: "Уольт Уитмэн. Побеги травы". Там, между прочим, мне встретились такие стихи:
Оружье нагое и стройное, синевата его белизна,
Из глубин материнского чрева голова его взнесена,
Плоть из древа и кость из металла, член один и губа лишь одна,
Серо-синий лист в красном жаре возрос, рукоятка же семенем малым
дана,
Лежит на траве, и трава под ним склонена,
В нем упор и в нем опора дана.
Что это? Ужели это Уитмэн? Это пьяный какой-то графоман! Если Уитмэн таков, то к чему его переводить, а если он не таков, то как смеет г. Бальмонт так издеваться над ним? Про какой здесь говорится "член"? 1). Про какую "губу"? И что за металл—костяной? И какое "чрево"? И "древо"?
Об Уитмэне говорили, будто он сказал слово, которое на устах у Самого Господа Бога, —неужели у Господа Бога на устах такие скверные, косноязычные слова!
Я помню эти самые строки в подлиннике. Ими Уитмэн воспевает топор. И они у него ударные, отрывистые, крепкие,—именно, как работа топора: Weapon shapely, naked, wane... Тá-та тá-та тáа-т-атá—
Так и слышишь лихое стучание по дереву. А у Бальмонта до чего уныло, похоронно, зевотно,—и, главное, как косноязычно.
 med.00152.113.jpg
med.00152.113.jpg
Пихает тебе в рот какую-то вату—жуй без конца, через силу, и рад бы не жевать, да нельзя, глотаешь до потери сознания:
Сильные формы и свойства сильных форм, мужские ремесла, звуки и
зрелища.
Многообразное шествие, знаменья, музыка в брызгах, по клавишам,
Органист, чьи персты проскользают, играя отрывисто,
Звучит великий орган.
Может быть, это что-нибудь и значит, но не хочется вникать, разбираться, Бог с ним!—скорее бы выплюнуть всю эту проклятую вату. А ее впереди еще горы и горы, ползет тебе в горло,— жуй:
Указания и зарубка времени,
Совершенная здравость (!) указует (!) на мастера (!) между фило-
софов
(!).
Время всегда без перерыва указует себя в частях.
Я захлопнул с яростью эту графоманскую книгу, и весь день у меня был испорчен. Как будто кто надо мной насмеялся.
И не знаю, горевать или радоваться, что на лучшие поэмы американского барда переводчик даже не посягнул. Ни "Песни о самом себе", ни "Пионеров", ни знаменитого гимна "Тебе"—в книге Бальмонта не имеется. А Уитмэн без этих поэм—все равно, как лицо без глаз. "Песня о самом себе"—первое и главное его творение, все остальное—второстепенность, деталь. Уитмэн всю жизнь только и писал что комментарии и как бы примечания к этому единственному своему созданию. И Бальмонт, переведя все остальное, все вступления и послесловия, и не заметив этой сути, основы,— похож на того архитектора, который вывел бы стропила и лестницы, а самого дома не выстроил. Перевод Бальмонта изобилует самыми печальными промахами. Уитмэн говорит, например, о столбцах цифр, которые писал пред аудиторией профессор. Цифра по-английски figure. Бальмонт и переводит: фигура, заставляя бедного профессора выводить пред студентами какие-то "фигуры в колоннах"! (стр. 121).
Уитмэн говорит о женщинах, что они "умеют за себя постоять" (they are ultimate in their own rights). Бальмонт же смешивает слово ultimate со словом ultimatum и переводит: — Они... ультиматум умеют поставить!! (39)
Как будто это не женщины, а дипломаты враждующих стран.
Право, эти фигуры в колоннах и эти ультиматумы женщин не хуже восхитительных лилейных кустов! В журнале "Весы" за 1906 г. (кн. XII) мною напечатан более подробный разбор Бальмонтовых переводов из Уитмэна. Так и чувствуется, что эти сумбурные строки были равнодушно и небрежно настуканы на Ремингтоне,—смаху, второпях, кое-как,—чем
 med.00152.114.jpg
med.00152.114.jpg
больше, тем лучше, и даже похоже, что переводчик ушел, а пишущая машина сама без него настукала все эти переводы. Поистине, это—машинное производство, здесь не истрачено ни капли души, и часто случается, что переводчик даже не пробует разобраться в значении и смысле переводимого текста, а переводит механически, не понимая ни слова:
— Мы включатели всех континентов... (149). Тело ее никто не зовет (148)
Дети... ртачливая основа всех улиц (153).
Конечно, и в этой сумбурной, недостойной имени Бальмонта книге выдаются проблески, —поэтичные, глубокие стихи. Приведу один перевод, который мне показался хорошим: В задумчивости и колеблясь, Пишу я слово Мертвый. Ведь Мертвые—Живые. (Единственно живые, может быть, Единственно реальные, А я—видение или призрак).
Толстой и Тургенев об Уитмэне.
Как относился к Уитмэну Лев Толстой? Об этом сообщает английский толстовец Эйльмер Мод (Maude) в книге "Толстой и его учение".
"Главный недостаток Уота Уитмэне,—говорил Лев Толстой мистеру Моду,—заключается в том, что он, несмотря на весь свой энтузиазм, не обладает ясной философией жизни. Относительно некоторых важных вопросов жизни он стоит на распутьи и не указывает нам, ко какому пути должно следовать. А между тем, ошибки и недосмотры ясно-сознающего человека могут быть более полезны, чем полуправды людей, предпочитающих оставаться в неопределенности... Во всех отношениях и по всякому поводу выражение ваших мыслей таким образом, что вас не понимают, плохо"...(См. "Минувшие Годы", 1908, IX 1).
Но совсем не так относятся к Уитмэну иные из нынешних толстовцев. Например, Эрнест Кросби, в своей превосходной книге "Толстой и его жизнеописание", подтверждает идеи Толстого именно идеями Уитмэна. Этот толстовец—вернее, социалист толстовской окраски—в своих стихотворениях был подражателем Уитмэна. (См. Эрнест Кросби. "Толстой и его жизнеописание". Перевод с английского. Изд. "Посредника", 1911).
 med.00152.115.jpg
med.00152.115.jpg
К сожалению, мнение Тургенева об Уоте Уитмэне дошло до нас из вторых рук в несколько расплывчатом виде. Беседуя в Париже в 1874 году с одним американским писателем о разных литературных явлениях, Иван Сергеевич сказал, между прочим, что "некоторое время его очень интересовали произведения Уота Уитмэна; он думал, что среди кучи шумихи в них были хорошие зерна". Следов этого интереса к Уитмэну в письмах Тургенева до сих пор не обнаружено. (См. "Минувшие Годы", 1908, VIII, стр. 67).
И. Е. Репин об Уоте Уитмэне.
В предисловии ко второму изданию моей книжки И. Е. Репин написал об Уитмэне следущее:
"Для меня было неожиданной новостью грандиозное значение юродивого поэта-американца, взошедшего вдруг предо мною вторым солнцем христианства. Божье дитя, Уот Уитмэн в простоте сердца открыл почти наново истинную суть Божественного Слова. Я, конечно, не в силах выразить все значение юродствующего апостола новой демократической религии, но думаю, что эта религия братства, единения, равенства не такая уж новая, как чудится К. И. Чуковскому: она была возвещена всему миру почти двадцать столетий назад. Меня всегда до обиды удручает несправедливость ветренного человечества в отношении к своему истинному Богу и Его апостолам.
"Я надеюсь, что с появлением Уитмэна современному языческому индивидуализму, культу разнузданной личности наконец-то нанесен удар. Фридрих Ницще, как Юлиан Отступник, капризно отвернулся от великих мировых завоеваний альтруизма, преклонился пред идолом личности, и небывалый восторг охватил нашу культурную чернь. Плоды индивидуализма—перед нами: хулиганство быстро множится на всех поприщах, попирая все святыни Святого Духа, в бешеной пляске мертвецов выставляются два новейших завета: грабеж и самоубийство.
"Но не нужно отчаиваться: это лишь эпидемия, она уже дошла до предела; начинается уже поворот. Не даром появился Уот Уитмэн, поэт соборности, содружества, любви. Скоро культурная чернь увидит всю отвратительную пошлость своих самовлюбленных героев и вся она дружно поклонится Миру Мира!
Тот, кто прошел без любви хоть минуту, на погребенье к себе он
прошел, и завернут он в саван,—
говорил великий поэт демократии.
"Культура и процветание—великое счастье человечества только тогда, когда и самые гениальные силы его не забывают обездоленного брата".
 med.00152.116.jpg
med.00152.116.jpg
Уитмэн и демократия.
В послесловии к третьему изданию моей книжки критик А. Луначарский написал об Уоте Уитмэне следующее: "Уитмэна принято называть "поэтом демократии". Это не точно и менее всего передает сущность его поэзии.
Непосредственно в понятие демократии входят такие принципы, как равенство и власть большинства, но притом в сфере чисто политической. Демократии, которые мы могли наблюдать до сих пор, были индивидуалистическими.
Их чисто политический характер отмечался так часто, что здесь было бы излишне настаивать на этом. Пресловутое равенство граждан перед законом, на основе которого расцветает ад эксплоатации капиталом пролетария, пресловутое всеобщее избирательное право, нигде не помешавшее фактическому верховодству финансовой олигархии,—осуждены в глазах каждого честного человека, ибо всякому честному должно быть ясно, что фактически существующий в любой стране демократический строй есть хитрая ширма, дань времени, удачно сдерживающая взрыв негодования масс мнимым предоставлением им "власти".
А Уитмэн?—Мощь и грандиозная красота уитмэнизма заключаются в противоположном такой демократии начале—в коммунизме, коллективизме, которые в психической сфере молодой уитмэнианец Жюль Ромэн назвал унанимизмом, т.-е. единодушием.
Слияние человеков. Равенство не песчинок, а равенство братских сил, об'единенных сотрудничеством и, следовательно, дружбой и любовью. Братство, провозглашенное за основное начало,—космическое братство, ибо, обняв человека, оно, по типу братского общества, начинает постигать всю природу. Что особенно странно и величественно, неожиданно, но естественно—даже борьбу склонно оно лишать элемента ненависти и рассматривать как особый вид сотрудничества, в котором из хаоса растет космос.
Тут Уитмэн, тут Верхарн, тут новая поэзия: в победе над индивидом, в торжестве человечества, в смерти эгоизма и воскресении личности, как сознательной волны единого океана, как необходимой своеобразной ноты в единой симфонии. Это ширит сердце, раскрывает его. Уитмэн—человек с раскрытым сердцем. Таких будет много, когда упадут стенки нашей одиночной тюрьмы, тюрьмы индивидуализма и собственности. Быть человеком с раскрытым сердцем и потому стать любимцем природы, снять с нее для себя и паствы своей злое очарование и постичь ее как волшебно-разнообразное единство, не умом постичь, а всем суще-
 med.00152.117.jpg
med.00152.117.jpg
ством почувствовать,—это трудно сейчас, и, может быть, это основа всякой гениальности. У Уитмэна особенно очевидным стал гений, то-есть раскрытость сердца, но она основа подлинного художества и называлась симпатией. Только это—жалкое название, дело идет о слиянности.
Безбрежно-могучие мысли пантеистов всех времен и народов, экстазы мистиков и счастливых созерцателей, самозабвенный героизм, проповедь и практика любви к ближнему и дальнему, музыка—все это предтечи того всечеловеческого чувства, того космического само- и всесознания, к которому естественно уготован человек, носитель сознания природы, но от которого он оторван личиной своего мещанского "я". Перечтите большое стихотворение Уитмэна: "Тебе".
Коммунизм принесет с собой,—для иных сразу, для других постепенно,—просияние. Коммунизм поставит человека на свое место. Проснется человек и поймет радостное свое предназначение—быть сознательным и бессмертным завершителем вселенского зодчества. Бессмертным. Человек бессмертен. Только индивид смертен. Кто этого не понимает—тот и Уитмэна не понимает.
В области политики и экономии коммунизм есть борьба против частной собственности со всей ее уродливой государственной, церковной и культурной надстройкой. А в области духа это—стремление сбросить жалкую оболочку "я" и вылететь из нее существом, окрыленным любовью, бессмертным, бесстрашным, подобным Уитмэну,—стать великаном-всечеловеком".
Уитмэн и футуристы.
Наши русские будущники—эго-футуристы и кубо-футуристы—естественно пытаются примкнуть к этой поэзии будущего. Изо всех поэтов во всем мире они, кажется, признают только Уитмэна. Еще в раннем "Садке Судей" московский футурист Виктор Хлебников, автор знаменитых "Смехунчиков", поместил поэму "Зверинец", далеко не бездарную, где откровенно пародировал Уитмэна. Привожу из этой поэмы отрывок:
Сад, сад, где взгляд зверя больше значит, чем груды прочтенных
книг,
Сад, где орел жалуется на что-то, как усталый жалуется ребенок,
Где олени стучат через решетку рогами,
Где утки одной породы подымают единодушный крик после короткого
дождя, точно служа благодарственный молебен утиному божеству,
Где носорог носит в бело-красных глазах неугасимую ярость низ-
верженного
царя, и один из всех зверей не скрывает своего
презрения к людям, и в нем затаен Иван Грозный,
 med.00152.118.jpg
Где грудь сокола напоминает перистые тучи перед грозой,
Где мы начинаем думать, что на свете потому так много зверей, что
med.00152.118.jpg
Где грудь сокола напоминает перистые тучи перед грозой,
Где мы начинаем думать, что на свете потому так много зверей, что
они умеют по-разному видеть Бога
1).
И так дальше. Стоит только сопоставить с этими футуристическими строками ту "Песню о самом себе", где Уитмэн, воспаряя над пространством и временем, в каком-то пророческом бреду охватывает взором всю вселенную,—и его влияние на русского будущника тотчас же определится с несомненностью. Напомню хоть несколько строк этой песни: Где бобр стучит по болоту хвостом, как веслом, Где плавник акулы торчит из воды, словно черная щепка, Где телки пасутся, где гуси хватают короткими хватками пищу, Где стадо буйволов закрывает собою всю землю на квадратные мили вокруг, и т.д.
Фразу же г. Виктора Хлебникова, что "взгляд зверя значит больше, чем груды прочитанных книг", Уот Уитмэн повторял неоднократно.
С Уитмэном эту московскую группу сближает ненависть к вульгарной эстетике, тяготение к неуклюжести, шероховатости, грубости.
Московский лучист Михаил Ларионов, проповедуя в "Ослином хвосте" свои самобытные взгляды, ссылается на Уитмэна, как на своего союзника, и пространно цитирует его стихи о подрывателях основ и "первоздателях" 2).
В петербургском эго-футуризме такой же культ Уота Уитмэна. Там появился рьяный уитмэнианец, Иван Оредж, который, подобно Хлебникову, старательно пародирует Уитмэна:
Я создал вселенные, я создам мириады вселенных, ибо они во мне,
Желтые с синими жилками груди старухи прекрасны, как сосцы юной
девушки,
О, дай поцеловать мне темные зрачки твои, усталая ломовая ло-
шадь, и т. д.
("Петербургский Глашатай", 1912, II).
Это почти подстрочник, и о другой поэме того же писателя, помещенной в альманахе "Оранжевая Урна", Валерий Брюсов воскликнул: —Что же такое эти стихи, как не пересказ "своими словами" одной из поэм Уота Уитмэна! 3).
 med.00152.119.jpg
med.00152.119.jpg
Уитмэн в истории американской словесности.
По какой-то непонятной причине русский читатель весьма беззаботен по части американской словесности. Кроме Эдгара По, Марка Твэна, Лонгфелло да Джека Лондона, он, кажется, не знает никого: ни Уитъера, ни Лауэля, ни Холмса, ни Эмерсона, ни Торо, ни Генри Джемса, ни О. Генри. Давно уже у нас ощущается надобность в серьезном труде по истории американской литературы. Весьма кстати в 1914 году вышла в русском переводе маленькая книжка В. Трента и Дж. Эрскина "Великие американские писатели" (издание П. И. Певина, бесплатное приложение к журналу "Современник"). Книжка дельная, местами талантливая; перевод, к сожалению, ремесленный.
Уоту Уитмэну в ней посвящена особая статья, подчеркивающая пророческое значение этого поэта. Авторы приводят образцы его творчества, указывают духовное его родство с Эмерсоном и оправдывают его притязание почитаться национальным поэтом Америки.
"В его стихах, в его взглядах на жизнь",— говорится между прочим в статье,—"Америка явила себя миру в самом величественном своем виде, и надо сказать, что она еще не доросла до его гордой, хотя и несколько туманной мечты о ней.
"Но и в Старом Свете он имет свою почву: всякая революция, стремящаяся к улучшению условий человеческой жизни, найдет в нем своего глашатая, а в его стихах—свои боевые кличи и лозунги".
Космическое сознание Уитмэна.
Нам уже случалось упоминать любопытный труд канадского доктора Ричарда Мориса Бёкка "Космическое сознание", где Уитмэн сопоставляется с Буддой, Иисусом Христом, Магометом и другими основателями мировых религий. Таких неумеренных почитателей Уитмэна один английский поэт язвительно назвал уитманьяками. В 1914 году эта "уитманиакальная" книга вышла в русском переводе в издательстве "Новый Человек". Автор затеял собрать и исследовать всевозможные человеческие документы, относящиеся к "озарениям" и "просветлениям" избранных экстатических душ, вышедших за грани обычного сознания, внезапно уверовавших в божественность мира, в бессмертие душ, глянувших из времени в вечность. Коллекция у него получилась богатая, и выводы, к которым он пришел, любопытны. Он, между прочим, указывает, что чаще всего случаи "озарения" бывают у
 med.00152.120.jpg
med.00152.120.jpg
33-летних, 35-летних мужчин, т. е. именно в том самом возрасте, когда и с Уитмэном произошел душевный переворот. Он цитирует следующие строки Уитмэна: Как в головокружении мгновенно Другое солнце нестерпимым блеском слепит меня, И все миры познал я, Ярчайшие, неведомые сферы, Одно мгновение будущей земли—земли небес,— и не без остроумия указывает, что Уитмэн, преобразившись, обретя как бы новую душу, любил в себе и свою прежнюю личность и "ветхого человека".
"Уитмэн, быть может, первый человек, который, обладая полным космическим сознанием, преднамеренно восстал против него, победил его и сделал его своим рабом... Уитмэн ясно видел, что хотя эта новая способность и божественна, однако она не сверх'естественнее, чем зрение, слух, вкус и осязание".